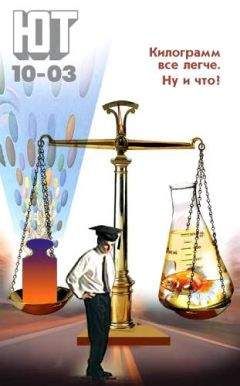Александр Слонимский - Черниговцы (повесть о восстании Черниговского полка 1826)
Внимание Матвея привлек один из присутствовавших — длинный, худой человек в рваном тулупе и высоких теплых сапогах. Лицо его заросло волосами. Он стоял сгорбившись и как-то странно взмахивал руками, как бы рассуждая с самим собой.
— Кюхельбекер, поэт, — сказал Якушкин Матвею. — Он бежал и был пойман в Варшаве.
С Кюхельбекером, улыбаясь, говорил о чем-то красивый офицер в адъютантском мундире.
Это был писатель Александр Бестужев, издававший вместе с поэтом Рылеевым альманах «Полярная Звезда»[57]
Через ряд пустых комнат всех шестерых повели в зал, где собрался верховный уголовный суд в полном составе.
За красными столами, поставленными «покоем»[58], сидели митрополиты, архиереи, генералы и члены Государственного совета. Для всех не хватало места, так что сенаторы стояли сзади.
Церемонией распоряжался министр юстиции князь Лобанов-Ростовский — высокий старик в расшитом мундире, весь обвешанный орденами и лентами. Он суетился, хлопотливо подбегал к арестантам и успокоился только тогда, когда выстроил их как следует, в ряд.
Обер-секретарь начал перекличку. Кюхельбекер отозвался не сразу. Князь Лобанов испуганно закричал ему:
— Да отвечайте же, отвечайте!
Потом все встали, и началось чтение приговора.
Все шестеро осуждались, как сказано было в приговоре, на смертную казнь «отсечением головы». Но, по монаршему милосердию, смертная казнь заменялась для них ссылкой в каторжную работу на двадцать лет, с лишением чинов и дворянства.
— Будем жить! — с усмешкой сказал Матвею стоявший рядом Якушкин.
После этого арестантов задним ходом повели обратно через двор крепости в их камеры.
У Матвея больно сжималось сердце. Все присужденные к одному наказанию призываются для выслушивания приговора вместе. Почему же с ним вместе не было Сергея?
Пятеро осужденных были поставлены «по тяжести их злодеяний» вне разрядов и вне сравнения с другими. Это были Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Петр Каховский, Михаил Бестужев-Рюмин и Сергей Муравьев-Апостол. Верховный суд определил им мучительную смерть четвертованием, но, соображаясь с высокомонаршим милосердием, постановил их повесить. Четверо выслушали приговор спокойно. Только Бестужев побледнел и пошатнулся.
Вечером 12 июля, накануне казни, к Сергею пришла на свидание сестра Катя Бибикова. Свидание происходило в одной из комнат комендантского дома. Старый комендант, одноногий генерал Сукин, удалился, тихонько постукивая своей деревяшкой, и оставил брата с сестрой наедине.
Катя, задыхаясь, стояла на месте и смотрела на брата. Она видела этот бледный лоб со спущенной прядью волос, эти прямые, как у матери, брови и этот особенный, Сережин, ласковый блеск темных глаз. Она не могла поверить, что эту шею задавит веревка.
Сергей был прост и спокоен. Он спрашивал о ее муже полковнике Бибикове, и об Алексее Капнисте, которые тоже были арестованы.
Узнав, что оба уже на свободе, Сергей с улыбкой сказал:
— Вот и хорошо.
Он оживился, когда заговорил о Матвее. Его мучило опасение, что Матвей после его казни покончит самоубийством.
— Не оставь Матюшу своими попечениями, постарайся рассеять его мрачные мысли, — говорил он сестре.
Когда пришла минута прощания и Сергей заметил судорожное движение на лице Кати, он ласково, точно старший, обнял ее и погладил по голове.
Потом с застенчивой улыбкой сказал:
— Что делать, что делать…
Осужденные на смерть были переведены в новые камеры. Сергей привык к стенам старой камеры, к надписям, которые были там нацарапаны, и переход в новую камеру, казалось, порывал последнюю связь с жизнью. На ногах его снова были цепи, которые раньше были сняты по распоряжению императора.
Перед ним горела свеча. Он вспоминал.
Вечер в Обуховке после грозы. Клочковатые, разорванные тучи и куски звездного кеба. Державин, его старческий голос. И эти закутанные в саван фигуры повешенных крестьян.
Потом дорога в Мотовиловку. Солнце, и снег, и синие дали. И перекошенное лицо Павла Шурмы.
Кто такой этот Павел Шурма? Он служит давно — вероятно, лет двадцать. Когда-то, должно быть, помещик забрил ему лоб. Его везли на телеге в город, в рекрутское присутствие. И он, может быть, плакал. Теперь скоро выходил ему срок, и он, вероятно, мечтал о возвращении в деревню.
Да, Павел Шурма чего-то не понял.
Свеча догорела. В замазанном мелом окошке виднелся рассвет.
По коридору тюрьмы вели пятерых. Гремели цепи. Впереди шел Павел Пестель. За ним — взлохмаченный Кондратий Рылеев и высокий Каховский. Сергей вел под руку ослабевшего, еле переступавшего в оковах Бестужева.
Влево от Петровских ворот, на валу, помост и два столба с перекладиной. На перекладине качаются пять петель. На одной из них, ухватившись руками, повис какой-то человек. Он пробует крепость веревки.
На лугу против вала — войска. Каменная шеренга. Каменные, плоские лица. Прямые, мертвые линии султанов. Перетянутые ремнем подбородки.
Направо, в конце Троицкого деревянного моста, черная кучка народа. Кордон солдат преграждает им путь.
Пятеро сидят на траве, в стороне от помоста, в серых арестантских шинелях с высокими воротниками. Они непринужденно беседуют между собой, обмениваются вежливыми улыбками — как будто вышли на раннюю прогулку и присели отдохнуть на свежей траве в ожидании, пока подадут экипаж.
Там, около помоста, суетятся люди: генерал-губернатор Голенищев-Кутузов, нарумяненный Чернышев в завитом парике, палачи. У них озабоченные, хлопотливые лица, как у лакеев, которые спешат приготовить господам все, что нужно.
А господа покойно сидят, не удостаивая лакеев ни малейшим вниманием.
Еще не рассвело. Чуть розовеют облака на востоке. Стальная Нева, трава на лугу между войсками и валом и там в отдалении, деревянные домики окраин — все обозначено бледными, прозрачными красками, как на картине, и кажется ненастоящим. Все это чужое. Пятеро в серых арестантских шинелях отделены от всего этого мира и только между собой связаны какими-то особыми узами. Они беседуют, как будто встретились где-нибудь в светской гостиной. Но что-то неожиданное — теплое и серьезное — проступает сквозь их вежливую, светски непринужденную беседу.
— Петр Григорьевич, — обратился Пестель к Каховскому, сидевшему с другого края, — так, кажется?
Они подали друг другу руку.
— Вот при каких странных обстоятельствах пришлось нам знакомиться, — сказал Пестель с добродушной улыбкой.
— Да, в минуту вечной разлуки с землей, — ответил спокойно Каховский. Не было и следа на его лице прежних волнений.
Пестель поглядел налево, в ту сторону, где розовела заря.
— Скоро рассвет, — сказал он. — Успеем ли мы увидеть солнце?
— Солнце встанет над всей русской землей, — проговорил твердо Рылеев. — Вы верите, Павел Иванович?
— Верю, — ответил Пестель, — потому что таков ход истории.
— Мы умрем, — продолжал Рылеев, — но будет жить наша мысль. — И он с чувством повторил слова Державина:
Так, весь я не умру. Но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить…
А это «большая часть» — это и есть наша мысль, — добавил он задумчиво.
Сергей молчал. Матвей, Ипполит, Хомутец — все отошло от него. На прошлое он глядел чужими глазами, как на это зеленое поле.
К ним подошли. Пятеро протянули руки друг другу, поцеловались. На голову надели мешок, руки и ноги спеленали белым фартуком. Повернувшись друг к другу спиной, Сергеи и Пестель успели еще раз соприкоснуться завязанными назад руками.
Подвели под виселицу. Теперь больше не было ничего. Только серый полумрак холстинного мешка около глаз.
Взвели на помост, поставили на скамейку рядом с другими Что-то зашуршало около шеи. Веревка.
Заколебалась под ногами скамейка, и ноги повисли в пустоте. Вдруг удар в подбородок, что-то с болью проехало по лицу. Сергеи упал вниз, с треском проломив при падении легкие доски помоста.
Новые веревки были туги, и голова выскользнула из незатянувшейся петли. Вместе с Сергеем сорвались еще двое: Рылеев и Каховский.
У Сергея свалился мешок с головы. Перед ним снова был мир — с зеленым полем, по которому бежал свет встающего солнца, с ветхими домишками в отдалении и с просыпающейся рябью Невы. И, когда его подняли, он увидел то, что, казалось бы, немыслимо видеть: он увидел свою смерть со стороны.
На крайних петлях судорожно крутились две белые спеленатые фигуры. Это были Пестель и Бестужев. Но Сергею казалось, что эти две спеленатые фигуры — это он, раздвоившийся он один.
Подскочили палачи и распорядители казни с перепуганными, виноватыми лицами, подобно лакеям, которые не сумели угодить господам.