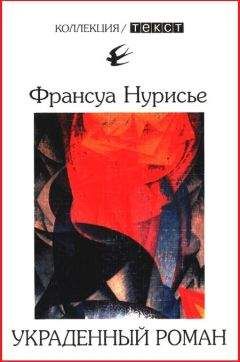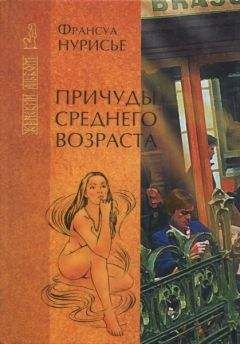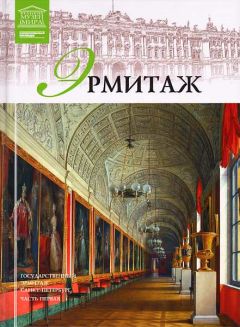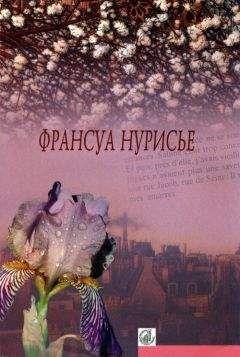Франсуа Нурисье - Хозяин дома
Откровенно говоря, неизгладимей всего мне запомнилась поперечная пила. Знаете ли вы, что такое поперечная пила? Приспособление для разделки древесных стволов, инструмент сверхсовременный, его поят бензином и запускают, дернув за шнур, как лодочный мотор. С виду она похожа на оружие, на огромный автомат, и ее назначение — убивать деревья.
Поперечная пила воет. Точь-в-точь затравленный зверь, сбесившаяся сирена, пущенный на полную мощность мотор, жернов: отчаянная жалоба все нарастает и становится оглушительной в тот миг, как зубья впиваются в кору. Можно подумать, что держишь в руках отбойный молоток, которому не хватает гудрона и мостовых, и всю его механическую ярость надо обратить на дерево; выставляешь ногу вперед для упора, налегаешь всем телом, и во всем теле отдается резкая дрожь. Понемногу вопль машины словно тонет в сердцевине ствола, вязнет, гаснет, обращается в глухое нутряное урчание, и вскоре лезвие замирает в глубине раны. Тогда надо извлечь его оттуда, отступить, растереть занемевшие руки, сведенные как в чудовищном столбняке, и вновь запустить мотор, прибавить ему мощности, иными словами, дать еще несравнимо больше воли этому нестерпимому вою, прежде чем снова погрузить все это — вопль, лезвие, исступление — в самые сокровенные глубины, где замкнута юность дерева.
Когда работает поперечная пила, собаки спасаются бегством, обезумев, точно от колокольного звона или от свистков, — несомненно, их уши ранит этот скрежет, перед которым любой другой шум все равно что карманный фонарик перед солнцем. Дети зажимают уши. Даже крестьяне с дальних полей бросают взгляд в ту сторону, где с таким шумом совершается убийство дерева.
Мы приехали под дождем. Уже целую неделю мы мотались по югу Франции, осматривали полуразрушенные хутора, жилища отставных полковников, замки, башни, мельницы в окрестных болотах. Сердца наши разбухли, точно губки, совсем как здешняя почва. Я пропустил мимо ушей название этой деревни, уже которой по счету; мы подъезжали к ней, и мосье Фромажо расхваливал ее за то, что здесь будто бы ничуть не сыро. Две улочки этой деревушки, кафе, часовня (или, может быть, храм?) — все казалось каким-то ненастоящим и вместе знакомым: словно все это уже видено, уже когда-то было… Мы объездили столько новых мест, что уже начали привыкать к этому смутному чувству. И, наконец-то, вот оно!
Мы обогнули площадь, и перед нами предстал Лос сан — громадина, живописная неразбериха стен и крыш, острых углов, откосов, граней, вся в печальных розовато-серых тонах, не дом, почти крепость — контрфорсы напряглись, словно готовясь выдержать осаду, скупо прорезаны узкие амбразуры окон, и все это под проливным дождем, окутанное паром, что поднимался от нагретой земли. Трое или четверо мужчин хлопотали посреди улицы, стараясь оттащить только что сваленное дерево и освободить проезд. У подножия стены выступал из асфальта пень, золотисто-смуглый, точно живая плоть. Падая, дерево надломилось. Все вокруг усеяли сучья и мелкие веточки. Опилки уже смешались с водой и грязью, и эта жижа стекала по канавке вдоль мостовой.
Наш проводник заговорил с этими людьми, стал спрашивать о ключах, а мы, задрав головы, разглядывали Лоссан. Надо было обогнуть его и проехать под аркой, только тогда открывалось обращенное ко двору и дружной гурьбе деревьев — его украшению — приветливое лицо дома. С этой стороны крепость встречала вас улыбкой. Наперекор грязи и запустению в этих стенах, в линиях сводов и арок, в очертаниях лестницы чувствовалось старомодное горделивое изящество. Мы вошли.
Неважно, как оно тогда было. Речь не о том. Кажется, я уже позабыл, как выглядел Лоссан в тот первый день. Вернее, каким он нам показался, что мы увидели в нем или не увидели при той поспешности, с какой мгновенно влюбляешься в дом. Помню одно: у меня не было ни малейшего желания что-то снести, а что-то надстроить, и мы не стали прикидывать, где у нас будет спальня, а где столовая. Этот дом надо было принять, как он есть, или сразу от него отказаться. Разумеется, он был слишком велик для нас: избыток тени, непомерный размах, исполненное благородства грандиозное обветшание, которому еще не предвиделось конца, — но кое-где сохранились и следы жизни: торчали огромные крюки, что поддерживали когда-то зеркала или портреты предков; свисали по стенам клочья обоев, позеленевшие, в черных разводах, а с изнанки еще можно было разглядеть изъеденные сыростью газеты, которые сообщали о передвижениях кораблей в Марсельской гавани в лето от рождества Христова 1847-е…
Внезапно с улицы, пронизав даже эти толстые стены, донесся истошный, раздирающий вой пилы. Женевьева в отчаянии зажала уши ладонями. Вой становился все пронзительней, достиг, кажется, немыслимой, предельной для звука высоты, потом захлебнулся в неистовом бешенстве распиловки. Фромажо распахнул окно — и вопль этот, вновь нарастая, атаковал нас в лоб.
— Да они с ума сошли! Просто с ума сошли! — невольно вскрикнула Женевьева.
Мы прошли коридор из конца в конец и оказались на галерее, довольно высоко над улицей. Внизу уже начали отпиливать самые толстые сучья. Рядом с нашей машиной остановился полицейский автомобиль: видно, жандармы требовали от пильщиков, чтобы те поскорей очистили дорогу. Опилки летели им в глаза. Дождь перестал, из соседних домишек высыпали жители поселка: одни помогали удерживать ветвь, на которую набрасывалась пила, другие в раздумье прислушивались к стонам дерева. На минуту стало тише, мы перевели дух.
— Это вяз, — сказал мосье Фромажо.
Уже назавтра мы снова приехали сюда одни, полные подозрений. Ветер затеял поход туч на восток, они шли весело, и движение это отражалось на земле быстролетной сменой света и тени. Детвора была в школе, деревня пуста. О вчерашней расправе напоминала только груда поленьев да опилки среди луж. Мы свернули и пошли пешком.
Дом выдержал испытание. Волшебство не рассеялось. Солнце смягчало угловатые очертания этой каменной громадины: дом казался чуть менее высоким, чуть менее суровым. И, однако, в глубине души — может быть, потому, что вновь настала хорошая погода, — мы оробели больше вчерашнего. Приступы моей лихорадки не поддаются ураганам, но готовы уступить солнцу. Женевьева качала головой. Щелкала фотоаппаратом и опять качала головой. Нас можно было принять за американских туристов.
Через несколько дней, осмотрев с десяток лачуг между Роной и Пиренеями и совершенно вымотавшись, мы вернулись в Лоссан. Мы хотели окончательно все выяснить. И только совсем запутались. Уже ни о чем не могли судить здраво. Я подписал бумагу, которая, в сущности, мало что решала. Мы возвратились в Париж, и там наши восторги вызвали град насмешек. Проявили снимки, и дом предстал на них во всей красе. Этот мошенник «кодак», слепой ко всему серому и грубому, запечатлел лишь золотые и охряные краски Лоссана на фоне яркой синевы, которую пересекала белая вереница облаков. Мы снова сели в поезд и субботним утром очутились в конторе нотариуса.
В кабинете у этого законника жара стояла, как в парильне. Волос у него было куда больше на пиджаке, чем на голове. Он обратил к нам сверкающую лысину и принялся бормотать текст, который он именовал соглашением. Слово это не сулило добра. Я обливался потом и поминутно утирался, как будто этот плешивый тип читал мой смертный приговор. Женевьеве явно было не по себе. Она первая возразила против какой-то мелочи, которую раздула прямо на глазах. Нотариус поглядел на нее поверх очков с двойными стеклами; у этого человека было три способа смотреть на вещи. Вдруг возникла уйма осложнений. И столь серьезных, что надо будет советоваться с госпожой Блебёф, с архитектором, с банком, с целым светом… Мы перепугались. В таких делах не следует долго раздумывать. Я почувствовал это по удвоенной любезности нотариуса, словно он заранее решил, что мы люди уж чересчур осторожные. Мои переменчивые настроения оказались тут не к месту. Мы простились.
Обедали мы рассеянно, не замечая вкуса, а гарское вино навело на нас тоску, и вечером мы свернули с дороги в город, где собирались переночевать, и опять покатили в Лоссан. Была уже полночь, холодно светила луна. Деревушка словно вымерла. Черно, ни огонька, горят лишь четыре уличных фонаря. Лоссан смотрел незрячими окнами, он спал тем непробудным сном, каким спала наша земля до появления человека.
В этот час невозможно было ни бродить вокруг, ни восторгаться лунным светом: собаки еще кое-как выносят американских туристов, но поднимают лай, заслышав пешеходов. С разных сторон уже доносилось приглушенное рычание. А я терпеть не могу, проезжая по деревне, будоражить собак. Мы поспешно пустились в обратный путь, за первые полчаса не обменялись ни словом, но, несмотря ни на что, увезли в себе запечатленный так же прочно, как на тех цветных снимках, строгий облик: дом, застывший в безмолвии, холодный и голубой от луны.