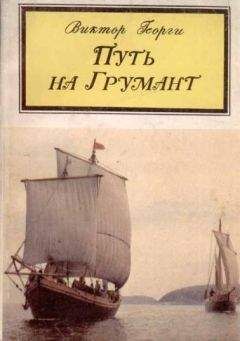Сергей Никитин - Рисунок акварелью (Повести и рассказы)
— Вы?..
— Представьте себе, я, — сказал человек в шапке. — Многие ли сегодня в зале плакали? Вот вы, ну еще, может быть, три-четыре чувствительные дамочки. А я однажды вызвал слезы всего зала. Там было больше трехсот женщин — и все не просто тихо пускали слезу в платочек, а рыдали откровенно и громко.
— Ну, это уж похороны какие-то, — сказал один из нас.
— Никакие не похороны, а обыкновенный концерт самодеятельности в фабричном клубе. Мне тогда было лет девять, и жил я с матерью в ткацком поселке. Маленьком таком, глухом, с одной фабрикой и станцией, где останавливался один поезд в сутки. Ну, сами догадываетесь, война тогда была. Поселок затемнен, холодно, голодно, ткачихи по двенадцать — восемнадцать часов из цехов не выходят… Ветер, помню, в этом поселке как-то особенно уныло свистел, подлец. Там росли высокие тонкие сосны, вот он на них и выводил, как на тоскливых струнах… Клуб был — кубическое, очень неуютное сооружение. Не отапливалось, конечно. И вот там наша школьная самодеятельность давала концерт. Собрались ткачихи — полный зал, сидели в пальто, в платках. Мужчин — ни одного. Воздух в клубе от дыхания отсырел, и пахнуть стало, как в ткацком цехе, — жирной влагой, хлопчаткой. Старшеклассники разыграли какую-то партизанскую пьесу, спели про синий платочек, поплясали, а потом вышел на сцену я. Что такое было тогда это "я"? Востроносая синюшная рожица, тонкая шея в хомуте широченного воротника, огромные валенки с голенищами раструбом… Петь мне нужно было какую-то артековскую песенку, слова которой и сейчас не помню и тогда забыл, как только очутился перед залом. Учительница пения пробренчала на промерзшем клубном роялишке вступление, а я молчу. Она опять дала вступление — молчу. Учительница старается подсказать мне слова, шипит что-то по-гусиному, но я уж ничего не воспринимаю, обалдел совсем от стыда и вдруг, не знаю сам как, запел без сопровождения первое, что пришло в голову. "Позабыт, позаброшен, с молодых-юных лет я остался сиротою, счастья-доли мне нет…" Учительница убежала. В зале тишина стоит мертвая, и только голосочек мой слабенько вызванивает: "Вот умру я, умру…" Слышу, в зале женщины начали всхлипывать, а когда я спел про могилку, на которую, знать, никто не придет, ударились все в голос. Никаких аплодисментов мне не было и бисов не было, но знаете, что женщины кричали из зала? "Ничего, — кричат, — малец, не пропадешь с нами, прокормим, не бросим…" И все в таком духе. Мы с матерью были эвакуированные, почти никто не знал нас в поселке, и ткачихи приняли меня за настоящего сироту. Вот вам и голос… Не голос пел, а горе. А оно жило тогда в каждом сердце…
Он замолчал и, так как мы продолжали идти молча, воскликнул, видимо, желая привлечь наше внимание к главному в своем рассказе:
— А женщины-то! Ткачихи-то! Не бросим, — кричат, — прокормим… Каковы, а?
1972Весна, старый писатель, маленький мальчик и рыжая собака
Этот маленький случай в жизни маленького мальчика произошел ранней весной, когда на осевшей под первым теплым лучом дороге появился первый грач.
Утром сквозь частый березняк желто светило на снег туманное солнце, и в колеях дороги, в каждой впадинке, за каждым комком лежали синие тени. Все это мальчик увидел через оттаявшее окно избы. Зимой стекла были сплошь покрыты лапастыми морозными узорами, и за ними ничего не было видно, а в это лучезарное утро вдруг открылась вся холмистая снежная даль, широкая деревенская улица, прямые медленные дымы над крышами, молодой тополек, золотившийся каждой своей почкой, и большой блестяще-черный, с седым носом грач, долбивший на дороге навозные комки.
Мальчик еще не ходил в школу, и делать ему было нечего. Одевшись, крепко подпоясавшись по шубенке широким армейским ремнем, он вышел на улицу. В деревне у него был друг — старый писатель в сверкающих золотой оправой очках. Он жил здесь и прошлым летом, дарил мальчику рыболовные крючки-заглотыши, длинные перяные поплавки, крепкую леску-жилку. И они подружились. Мальчику нравилось, что писатель держался с ним, как с равным. Он, мальчик, даже покровительствовал ему в той жизни, которую они вели на берегу реки, в лесу, в лугах, показывая дорогу к рыбным заводям, луговым озеркам, малинникам и грибным местам. И теперь нужно было поскорей сказать писателю о том, что прилетели грачи.
Мальчик вошел к нему без стука. Писатель повернулся на скрипучем стуле, медленно снял очки и, сведя густые брови, сказал:
— Я же запретил тебе беспокоить меня по утрам.
— Прилетели грачи, — не смутившись, сказал мальчик.
— Это другое дело.
Писатель встал. Он был невысокий, с крутой спиной и тонкими ногами, свободно болтавшимися в раструбах поношенных валенок. Одеваясь, он по-стариковски кинул полушубок сначала на спину, потом трудно полез в рукава.
Мальчику всегда становилось жалко его, если приходилось замечать, как он стар. Почему-то особенно тяжело ему было видеть, как писатель наматывает на шею длинный узкий шарф — наматывает и наматывает окостенелыми руками, пока не останется маленький кончик, который будет торчать у него из-за воротника на затылке. Мальчик даже плакал перед сном в постели, когда вспоминал этот шарф; ему казалось, что ночь и холод за окном никогда не пройдут и люди больше не увидят друг друга в этой ледяной тьме.
Он и сейчас отвернулся, чтобы не видеть, как писатель будет наматывать шарф, но золотисто-голубое сияние мартовского дня уже померкло для него, и ему хотелось плакать.
— Пойдем, — сказал писатель.
В сенях им под ноги радостно кинулась рыжая собака.
— Пойдем, — сказал и ей писатель.
И все трое спустились по мокрым обтаявшим ступеням крыльца. От собаки в теплом влажном воздухе сразу густо запахло псиной; сырно и кисло запахло от нового полушубка писателя. Мальчик показал рукой вдоль широкой, как площадь, улицы:
— Он там.
Они пошли по тропе между высокими сугробами, и синие изломанные тени двигались вместе с ними. Тропа была такая узкая, что идти приходилось друг за другом. Мальчик волей-неволей видел кончик шарфа на затылке писателя и чувствовал в горле тугую слезную судорогу. Он завидовал собаке, которая беспечно и резво бежала впереди всех, на бегу хватая зубами мокрый снег. Она не понимала, что хозяин ее стар, что когда он кончит свою работу и уедет в город, то вряд ли уже вернется сюда, в деревню среди ржаных полей и березовых перелесков, к маленькому мальчику, который так любит его.
Грача не оказалось на прежнем месте. От этого мальчику сделалось так обидно, что он наконец не сдержался и заплакал.
— О чем ты? — спросил писатель.
Но мальчик был не в силах выразить словами то, что неясно и тяжко угнетало его. Он сказал только:
— Ты уже кончил свою работу?
Писатель умел угадывать в словах большее, чем они значили сами по себе.
— Да, — сказал он, — я скоро уеду, но ты не горюй, мы опять увидимся с тобой.
— Нет, — потупившись, сказал мальчик. — Ты очень старый.
— А-а, вон оно что! Вытри слезы.
Они пошли дальше, туда, где в проеме улицы сияли чистые снега полей и на них ощутимо лежала толща голубого мартовского воздуха. За деревней, прислонившись к пряслам, писатель долго молчал. С тихим звоном рушились под напором солнца сугробы в полях, и дрожащий фиолетовый прозрачный пар поднимался над березовыми перелесками, пробудившимися к сокодвижению. Было тепло здесь, на угреве; присмиревшая собака села у ног хозяина; по каштановой шерсти ее лились золотые солнечные блики. Мальчик тоже затих; лишь изредка прерывистый вздох — последыш плача — сотрясал под шубенкой его тело.
— Я скажу тебе, — заговорил писатель, — скажу тебе то, что ты, быть может, не осилишь сейчас ни душой, ни разумом, но со временем обязательно поймешь, если не будешь жить по гнусному закону эгоизма. Жизнь моя прошла, как большой праздник. Я радовался тому, что принимал от природы и людей, и еще больше радовался тому, что отдавал людям. Уходя, я оставляю им все и через это остаюсь вместе с ними. Будешь ли ты писать книги или пахать землю, делай это не для себя, а для них, и никогда глухое отчаяние конца не сожмет твое сердце, потому что ты будешь знать, как знаю я, что сотворенное тобой возродится в новой жизни — в новых людях, деревьях, цветах, птицах и зверях…
— И в собаке? — спросил мальчик.
— И в собаке, — улыбнулся писатель. — А вообще-то все, что я наговорил тебе, давно уже сказано проще: помирать собираешься — рожь сей.
Мальчик по-своему все понял. Он в последний раз прерывисто вздохнул и сказал:
— Я тоже заведу себе такую собаку, чтобы и у меня собака была.
— И правильно, — одобрил его писатель.
Ничего особенного не случилось в это утро: опять, как вечно, синим мартовским светом весна заглянула в глаза всему живому.