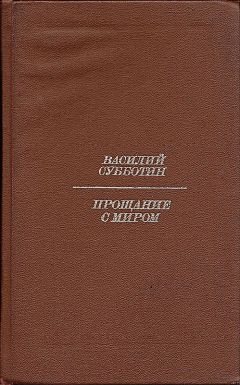Василий Субботин - Прощание с миром
— авиатехник, кажется, этот был помоложе, человек замкнутый, если не сказать осторожный, у которого было слишком смутное представление о войне, что меня очень тогда удивляло. (На войне можно быть за десять километров от войны и ничего не знать о ней!) Но скоро старик умер, авиатехник получил отпуск, а я остался один. Госпиталь понемногу начинал освобождаться, рассовывать по разным местам и отправлять в тыл тех раненых и больных, которых можно было отправить.
Госпиталь был расположен за городом, почти на самой окраине. Это был целый больничный городок, вокруг которого шла высокая красная стена. Рядом с ним, с этим больничным городком, через дорогу от него, за луговиной, сияло большое озеро, оно нее заросло по краям деревьями, а кое-где даже тростником и осокой. Только на противоположном берегу были видны какие-то деревянные постройки, купальни, причалы может быть, а в одном месте, в разрыве, за домами, была видна кирпичная труба,— должно быть, корпус какого-нибудь небольшого здешнего завода. Левее там, на середину озера, с противоположного, как я думал, подступающего сюда берега, выдавался далеко в воду хвойный лесок, росли высокие ели и сосны, а по-над водой такие же высокие ветлы.
Такое это было озеро и такой берег.
Я мало находился в палате у себя. Едва только мне разрешили выходить на улицу из палаты своей и из корпуса, как я переодевался, надевал вязаные брюки, где-то мной раздобытые, белую рубашку и уходил в город. Я шел через больничный городок, держась в тени, под навесом густых каштанов, по булыжным, камнем мощенным аллеям, шел к воротам, никем и никогда не охраняемым. Затем выбирался на дорогу, высокую, гудронированную и тоже загороженную от солнца стоящими по бокам деревьями. Но залитое черным гудроном шоссе гудело, по нему то и дело проносились машины. Я сходил на боковую дорожку, забитую травой. Справа от меня сверкало озеро, а на другой стороне, за мощным столбом тени, сквозь деревья были видны озаренные солнцем поля, зеленые и желтые холмистые дали, а там еще такие же ветвящиеся, раскинувшиеся во все стороны дороги.
До города было еще далеко, и, пока я до него добирался, я успевал послушать повисшего на ниточке, звенящего, славящего день жаворонка и показать дорогу издалека откуда-то возвращающейся, тянущей за собой тачку немецкой семье. До города было километра два, но все-таки, пока я — туда-обратно — так ходил, я едва успевал к обеду.
Тут, на дороге, которую мне надо было перейти, на обочине ее, стоял брошенный немецкий танк, хитроумный, со множеством люков, со свернутой на сторону башней и сорванной, лежащей в траве гусеницей, и в нем играли белоголовые немецкие дети. Когда бы я ни шел, они всегда тут лазили, высовывали головы из люков, зная уже, что мы их не погоним. Они лазили уже и в таком танке и копались там, внутри... Странно, что не было слышно ни одного крика, что дети эти, играя там, в танке, не шумели, не кричали, как, казалось, должны были бы, а играли совершенно бесшумно, ни одного крика, ни одного звука не было слышно. Как будто смотришь пьесу, исполняемую глухонемыми...
Я ходил всегда по одной и той же улице мимо кинотеатра, к тому времени уже открывшегося, доходил до переезда, до шлагбаума, желтого, перегораживающего улицу, за которым уже начиналась полная тень от сошедшихся над головой деревьев, и почему-то так ни разу не перешел чуда, за этот шлагбаум, за переезд.
Я возвращался в палату к обеду, выпивал поставленные для меня заранее в шкаф полстакана отвратительного напитка, называемого ликером, наскоро, без всякого вкуса, съедал обед и засыпал, если мог. К сожалению, чаще всего не мог.
Днем я выходил в парк, бесцельно бродил среди корпусов, выбирался на дорогу, где тень от деревьев была гуще, а всего чаще сидел на берегу озера, у воды, высматривал неизвестно что. Озеро было красивое и доброе, оно слегка даже ласково поплескивало у берега, как море. Листва на деревьях, на буках и вязах, которые росли вокруг, успела не только вовсю развернуться, но и довольно сильно запылиться, основательно покрыться пылью. Ее припекало солнце. Лето было сухое и жаркое.
Тут, у воды, я сидел рядом с удильщиком, старым востроносым немцем, который каждый день приходил сюда и аккуратно раскладывал свои удочки в тени ветлы. Тут были и березы и ветлы. Я удивлялся, что деревья тут, в Германии, были те же самые и точно такие же, как и у нас в России... Я смотрел, как он часами так же бесцельно, как я, сидит у озера, следил за его яркими на воде поплавками или смотрел на лежавший на том берегу город. На закате он был очень хорош, весь остроконечный, контурно-черный, с его четко прочерченными в небе силуэтами. Вода в озере была в эту минуту спокойной, в отблесках заката она лежала как-то особенно тяжело.
По вечерам я подолгу не отходил от окна, глядя на красные, плющом увитые корпуса клиник, на башни, на кирху, на раскрытые в этот час окна палат. Следил из своего окна за тем, как далеко там, внизу, солнце заходит за черепичные, острые, круто подпитые крыши домов...
Я чувствовал себя покинутым и забытым, оставленным здесь навсегда... Я был как выкинутая на берег ракушка, на берег озера, которое расстилалось тут, за дорогой.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Надо сказать, что я узнал этот город еще до того, как попал в госпиталь. Я даже жил здесь некоторое время... Теперь мне казалось, что все это было со мной когда-то очень давно.
Нас вывели из Берлина через неделю после того, как бои в Перлине закончились,— через день или через два, как мне кажется, после праздника Победы. Мы даже не знали, в первое время даже не поняли, что произошло, куда и почему нас выводят... Мы вообще ничего не знали. Ночью нас разбудили, подняли, что называется, по тревоге, мы наскоро, в темноте, погрузились и той же ночью выехали из города. Мы только потом узнали, что в занимаемый нами район Берлина наутро должны были прийти англичане. Они пришли туда только через две или три недели.
Армия наша, как и другие армии нашего фронта, вела бои за Берлин, а мы даже, корпус наш и наша дивизия, вырвавшись вперед, опередив других, тех, может быть, кому это надлежало сделать, и, возможно, спутав тем самым планы, разработанные где-то там, наверху, прорвались к центру и вели бои за правительственный квартал, брали рейхстаг.
Мы много похоронили в Берлине наших солдат...
В первое время мы стояли в так называемых охотничьих угодьях Геринга, в его имении, где он находился с: тех пор, как, увидев, что сопротивление бесполезно, бежал из Берлина. Когда мы приехали, он уже скрылся, бежал и отсюда, все еще рассчитывая на что-то... Очень красивые Пыли места. Два озера соединялись здесь в одно. Но мы недолго стояли здесь, на этом озере и в этом лесу, где рядом с замком Геринга, в лесу том же, в вольерах, жили дикие звери, его собственный, Г еринга, зоопарк. Очень скоро, так же поспешно, мы и обжиться не успели тут, нас вывели и отсюда, и мы опять двинулись по дороге, через поля и леса, куда-то все дальше на север и приехали в этот маленький, тихенький, как показалось нам сначала, городок.
Город, в который мы пришли, ничуть не был разрушен, война его пощадила, как ни странно, обошла его стороной. А между тем именно отсюда, в конце всего, пробивались к окруженному памп, зажатому в кольцо Берлину последние немецкие части армии Венка, па которые так рассчитывал Гитлер. Солдаты этой армии, те, что остались живы, беспорядочным потоком, опрокидывая обозы беженцев, хлынули потом за Эльбу.
Городок был, как уже сказано, небольшой, двухэтажный и тоже был расположен вокруг озера. Здесь мы и остановились.
Мы жили тут в доме рядом с каналом.
Во дворе почти перед самым моим окном пышно цвело какое-то молодое, свежее дерево, может быть, это была слива или яблоня, не помню уже сейчас точно, тоже уже начинавшая цвести к этому времени. Возле забранной сеткой бетонной ограды цвела сирень. У входа, перед порожками самыми, был небольшой зеленый газон, с первой, но уже пошедшей в рост травой. По другую сторону улицы, напротив дома, в котором мы остановились, бурлил, нес свои все еще не схлынувшие вешние воды канал, по берегам которого, грубо и отвесно выложенным камнем, липа скрыто наливала ночки медом. Дубы и вязы, почувствовав тепло, тоже уже начинали развертывать свою упругую, нежную и сочную, но уже темную листву. Повсюду, вдоль тротуаров, по краям и обочинам дорог, во дворах и на улицах, что-нибудь цвело, благоухало, и сам воздух был напоен свежестью утра, запахами молодой, только что народившейся, еще влажной травы, зеленью первой весенней листвы, был воздухом вступающей в свои права весны.