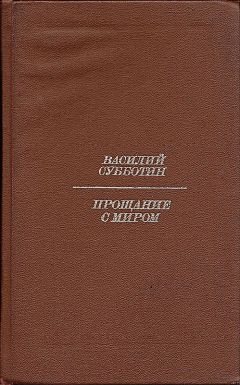Василий Субботин - Прощание с миром
Я до сих пор не могу забыть ни этого часа, ни этого дня, когда я прятался в сырой этой, холодной, оставшейся в тылу землянке. Мне кажется даже, что я никогда не слышал разрывов такой силы, как в проеме этой выходящей в овраг землянки, куда я был загнан столь усиленным и столь долго продолжающимся артналетом, перед самым входом в нее, перед дверью...
Не знаю, отчего я так запомнил все это!
17
Я вышел в этот день рано и шел, как всегда, один, по-настоящему не зная, что делается там, куда я шел, в том полку и в том батальоне, в котором мне предстояло побывать... Очень легкий туман, не туман даже, а прозрачная легкая дымка, мгла небольшая, поднималась от земли, от выпавшей за ночь росы, тянулась по грани леса, подступая к дороге, по которой я шел. День был холодный, сырой, непогожий, с быстро бегущими, нависающими над головой облаками. Земля вокруг была обезображена воронками, большими и малыми, истыкана была снарядами, исклевана минами. Вот эта воронка от их дальнобойной, а эта от сравнительно небольшой пятидесятикилограммовой авиационной бомбы. Я все это знал и все это очень хорошо различал, Я прошел мимо двух когда-то сожженных здесь наших танков. Они стояли па поле и издали были похожи на стога обмолоченной соломы, давно уже почерневшей, на сметанные и сложенные в «бабки» снопы... Из-за поворота дороги навстречу мне вышел раненый солдат. Толсто забинтованная рука его была прижата к груди. Можно было подумать, что он несет запеленутого ребенка.
Я прошел еще немного. Туман постепенно отступил, рассеялся, дорога явно шла на подъем, пейзаж прояснялся, понемногу светлело, распогоживалось. Я шел бы так, наверно, еще очень долго, если бы вдруг, не знаю откуда, откуда-то из-за невидимого мне холма, из-за еле различимой складки местности, не раздалось резкое:
- Ты что, такая мать, не видишь, что ли, куда идешь!
Подобный артиллерийскому налету, довольно сильный, раздраженный мат обрушился на меня. Я даже немного отступил, настолько это было неожиданно для меня в ту минуту.
Так я познакомился с одним из замечательных людей нашей дивизии, человеком, ставшим впоследствии очень известным. Мы не раз потом вспоминали с ним, как и с чего начиналось наше знакомство.
Дело в том, что на переднем крае очень не любят, если не сказать боятся, всякого рода случайных людей, таких вот шальных и дурных, как я, которые приходят сюда без всякой нужды, без особой на то необходимости, идут туда, куда нельзя ходить, и тем самым обнаруживают боевые порядки, демаскируют нашу оборону перед лицом противника, в то время как находящиеся на переднем крае люди думают только о том, чтобы как можно больше узнать о противнике и как можно меньше дать сведений о себе...
Надо сказать, что какие-то вещи я только теперь, с годами, с возрастом может быть, впервые не то чтобы открыл, но хоть сколько-нибудь твердо сформулировал для себя. Вот и эту не столь уж сложную мысль я тоже только теперь до конца по-настоящему уяснил себе.
Ох как он хлестнул тогда меня матом. До сих пор еще стоит в ушах этот его крик.
Несколько забегая вперед, вспомнил заваленный первым, еще очень мокрым снегом лес, по краю которого вокруг костра жмутся солдаты, не очень большая кучка бойцов в парящихся мокрых шинелях, в шапках с опущенными ушами. Зима еще не наступила, и снег этот, скорее всего, не один раз еще растает, но пока он идет, не то снег, не то дождь, мелкий сеющий дождь пополам со снегом. На земле, прямо на снегу, под деревьями тоже, под сосной, стоит ящик радиоприемника, не знаю откуда взявшийся тут, и приткнувшийся возле него солдат пытается найти нужную волну, поймать передачу. Завтра праздник,
Седьмое ноября, и — с минуты на минуту — должны начать передавать приказ, а то даже и речь Верховного. Речи может и не быть, а приказ будет обязательно. Но пока слышен один только треск и далекие, как при грозе, разряды. Мы все боимся пропустить эту минуту, вдруг приемник перестанет работать, не удастся его наладить, не удастся найти нужную волну.
Я пришел в этот раз в полк, в один из батальонов опять же, когда немцев потеснили, вынудили их отойти с занимаемого рубежа, оставить свои всегда хорошо обжитые позиции, пришел на окраину этого леса. Не было здесь пока еще ни траншей, ни окопов, неизвестно было даже, как далеко немцы, как далеко они отошли. Когда я шел сюда, я, как водится, представлял себе, что вклинившийся в глубину немецкой обороны батальон пытается закрепиться на достигнутом рубеже, роет хотя бы окопы. Но ничего этого не было. Вокруг меня был лес, густо опушенный падающим мокрым снегом. Я стоял вместе со всеми вокруг этого пылающего на снегу костра, потому что ноги у меня тоже промокли, да и шинель изрядно была мокрая. Снег шел, не переставая, ночь, к этому времени уже стемнело, была мутная, мглистая, тихая, с низко нависающими над головой облаками. Не доносилось ни стрельбы, ни взрывов. Было очень тихо, мирно, спокойно. Было такое ощущение, что немцы где-то рядом, где-то очень недалеко от пас, может быть даже в том же самом лесу, что они, гак же как и мы, пока еще не закрепились, еще не пришли в себя и, до утра уж но всяком случае, ничего не смогут предпринять.
Я стоял за спиной одного ил солдат, который был ближе других к костру и читал какую-то книгу, одну из тех книг, которые появились перед войной и которые тогда еще, перед войной опять же, мы все читали. Возможно, что это была «Как закалялась сталь», не знаю, не помню, а выдумывать не хочу... Читал, не отрываясь, ничего не видя и не замечая вокруг себя, как будто он один был тут, в этом занесенном снегом лесу, среди освещенных костром, залепленных снегом деревьев.
Никогда потом я уже не видел ни одного человека на фронте, читающего книгу. Я говорю, разумеется, о передовой. Ни потом, ни до того времени никогда не видел, не приходилось. Может быть, где- то в другом месте, в других, что называется, условиях, и читали, но там, где я был, не приходилось, не видел...
До сих пор все это у меня в памяти. Многое, казалось бы куда более важное, более значительное, ушло, а это осталось.
19
Было уже поздно, я возвращался с переднего края к себе в редакцию. В темноте под деревьями, рядом с дорогой, по которой я шел, белела палатка санроты. В ту минуту, когда я проходил мимо, из палатки вышла девушка в белом халате и, знаком, пригласила меня идти за нею. Еще не зная, что все это значит, зачем меня зовут, я пошел за нею. Я откинул полог и увидел на столе перед собой лежавшего ногами к выходу солдата. Я уже по обуви, от двери, видел, что это солдат. Все внутренности у него были вынуты, лежали на том же столе, на клеенке, которой был прикрыт этот солдат, на нем самом. Можно было бы сказать даже, что он под ними лежал. Едва я вошел, как мне тотчас сунули лампу, заставили меня светить, присвечивать. Ранение было осколочное, солдат был весь буквально изрешечен, буквально весь был пробит насквозь. Стоявший над ним хирург тщательно осматривал кишечник, несколько девушек ему помогали. Были они в масках, в марлевых таких повязках, салфетках, нос и рот у них были закрыты. Я держал эту керосиновую лампу медную, сильно ее наклонив, и смотрел, как ловко действует хирург, проверяя, нет ли где пробоин, разглядывая каждую кишку в отдельности, короткими отмашками пропуская ее между пальцев. Так, наверно, думаю я сейчас, просматривает на свет пленку кинооператор, проглядывая то, что заснялось... Сестры в белом, их было две или три, стоя тут же наготове, послушно подавали тампоны, пинцеты — все, что необходимо было в эту минуту хирургу. Я не знаю, сколько я так стоял, светил им, держа в руках эту тяжелую, скользкую, воняющую керосином, самодельную, сделанную из гильзы сорокапятимиллиметрового снаряда лампу. Должно быть, мне стало плохо, потому что хирург что-то сказал из- под своей маски сестре, и она схватила, взяла у меня из рук эту лампу. Что было дальше, я не помню.
Я очнулся, когда хирург уже снял маску и, поглядывая на меня, мыл руки. Раненого к тому времени уже унесли. Я сидел в углу, на табуретке, и рядом со мной стояла знакомая сестра, тоже уже снявшая маску. Оказывается, она была здесь во время операции, я ее просто не узнал. Она терла мне виски спиртом и давала что-то нюхать. Стоявший в углу, мывший в это время руки хирург посмеивался, усмехался.
Я поскорее вышел на воздух, потому что мне все еще было нехорошо.