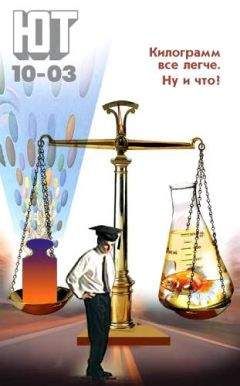Леонид Жуховицкий - Легенда о Ричарде Тишкове
— Ну? Я слушаю. Ведь ты, наверное, приехал зачем-то?
— Ты сама понимаешь.
— Но ты все-таки можешь объяснить?
— Тише, — показал он взглядом на занавеску.
Она сузила глаза:
— Кажется, молодой отец приступил к родительским обязанностям?
Он спросил, помолчав:
— За что ты на меня злишься?
— За что? Хотя бы за то, что ты ни в чем не виноват. За то, что я даже не могу назвать тебя подлецом. Ты же меня не обманывал. Все было, как говорится, по доброму согласию. По-доброму встретились и по-доброму разошлись. Только тебе осталась степень, а мне — ребенок.
— Перестань, — сказал он тихо.
— Милый, не надо, — ласково попросила она. — Я до сих пор не могу смотреть на тебя, когда ты такой. Ты такой усталый, такой обиженный, такой наивный, что женщина, если она не последняя мерзавка, просто обязана лечь с тобой в постель…
— Почему ты тогда не сказала мне?
— Какая разница?.. Это уже почти археология.
В коридоре послышался шум — спотыкающийся баритон и женская скороговорка. Из потока слов выделялись два наиболее часто произносимые: «прости» и «морда». Потом резко ударила дверь и словно прихлопнула голоса.
— Кто это? — спросил Сергей.
Она ответила:
— Семейная сцена. К науке отношения не имеет… Еще вопросы будут?
Она говорила с ним холодно и презрительно, почти грубо. Но и грубость не трогала. Не тронула бы и брань, крики, истерика, даже угрозы. Все это было, в общем, привычно хотя бы потому, что на сотню больных всегда найдется один такой, и еще потому, что в районной больнице, где он начинал, было психиатрическое отделение… Он подождал немного и спросил:
— Ты можешь ответить серьезно?
— Допустим.
— Что ты собираешься делать дальше?
Она пожала плечами:
— Жить. Учить детишек иностранному языку. Зарабатывать на хлеб и молоко — ему сейчас без молока не обойтись… Ах, ты имеешь в виду мой общественный статус? Да, собираюсь выйти замуж.
— За кого?
— Какая разница! Просто я не хочу, чтобы у моего сына был прочерк в метрике. Имя без отчества.
Он спросил не сразу:
— А если там будет стоять моя фамилия?
Она подняла голову и посмотрела на него:
— Прикажете считать это официальным предложением?
— Как хочешь.
— Так, — сказала она. — Предложение руки, жилплощади и кандидатской ставки. И сердца. Разумеется, сердца.
Она вздохнула.
— Заманчиво. К сожалению, ребенку нужно не только отчество, но и отец. Не будем об этом говорить.
За окном, где-то в начале улицы, раздалось негромкое звяканье — видно, ехал грузовик с железом в кузове. Он приближался, пронзительно и резко прогрохотал под окном и снова затих в отдалении. Оба посмотрели на занавеску. Но малыш не проснулся.
— Как его зовут? — спросил Сергей.
Она насмешливо покачала головой:
— Трогательная картинка. Счастливый отец интересуется именем шестимесячного сына.
Он подождал немного, но она так и не ответила. А переспрашивать он не стал.
Он понимал, что все это — не разговор. Ведь она знает, зачем он приехал. Значит, должна сказать «да» или «нет». А пока злится, все равно не ответит.
Он вдруг подумал, что комнату она, наверное, снимает. Он спросил:
— Ты сколько платишь за комнату?
— Двадцать рублей.
Она помолчала и устало проговорила:
— Не надо, Сергей. Я знаю все, что ты можешь мне сказать. Ничего не надо. Не надо замуж, не надо денег, не надо моральной поддержки сыну. Проживет. Неприятно, конечно — у всех папа с мамой, а у него мать-одиночка. Что же, будет бедней других.
Сергей спросил, не глядя на нее.
— Тебе, наверное, многое нужно сейчас?
— Мне? — ее голос снова стал холодным и презрительным. — Только одно — маленькая война. Мирное время — не для матерей-одиночек. Уж я бы придумала ему такого папу-героя!..
И опять он молчал — молчал безразлично, только что не зевая. Обижаться на фразу — эта роскошь не для врача…
Тогда она сказала:
— Ну? Что ты молчишь? Долго ты будешь вот так сидеть и молчать?
— Пока ты не перестанешь злиться.
— Ну, хорошо, — неожиданно спокойно проговорила она. — Вот я перестала злиться. Что дальше?
— Ты знаешь.
— Что знаю?
— Я хочу, чтобы ты поехала со мной.
— В качестве кого?
— Вероятно, в качестве жены.
Она покачала головой:
— Поздно, такие вещи делаются сразу. Теперь я слишком хорошо знаю, как это будет… Знаешь, мой тебе совет — женись на порядочной девочке. Лет семнадцати. Ведь есть там у вас какие-то лаборанточки? А у тебя великолепное для мужчины качество: ты позволяешь себя придумывать. Такой занятый и всегда молчишь. В тебе поразительно легко увидеть свой идеал — тем более, в семнадцать лет…
Она рукой попробовала воду в тазу и сказала:
— Ты прости, мне надо пеленки стирать. Тебя не будет шокировать эта проза?.. Впрочем, ты же врач.
Он спокойно глядел, как она сгребала ворох грязных пеленок. Эта проза его не шокировала, и не вызывали жалости тонкие породистые пальцы, перебиравшие загаженную фланель. Грязь, кровь, гной и все то, о чем не говорят за обедом, было для него естественно, как «здравствуйте», как галстук к выходному костюму. Когда-то он был брезглив, обычно брезглив, как всякий нормальный человек. Постепенно это прошло, и не только потому, что ко всему привыкаешь, но и потому, что он становился все более врачом, все глубже вникал в человеческое тело и все больше уважал его, как умный мастеровой уважает материал. А грязь, кровь, гной и то, о чем не говорят за обедом, тоже было частью человека…
Валерия вышла сменить воду в тазу, вернулась и вновь принялась за пеленки.
— Теперь я слишком хорошо знаю тебя, — сказала она, не отрываясь от стирки. — Ты просто эгоист, добропорядочный эгоист. А если уж выбирать из эгоистов, я предпочла бы прямого подлеца. По крайней мере, откровенно.
— Почему эгоист? — сдавленно спросил он. До сих пор поток колкостей и оскорблений проходил мимо ушей. Но теперь он спросил: — Почему эгоист?
— Самый настоящий эгоист, — сказала она. — Ты, твоя работа, твои больные, твоя докторская диссертация… Ты!
— У меня нет докторской.
— Еще будет! Ведь кандидатская уже есть?
— Иначе мне не дали бы группу.
— Совершенно верно. Твою группу… Так вот, я не хочу быть твоей женщиной. Не хочу занимать эту штатную должность. Не хочу довольствоваться той десятой или пятнадцатой частью тебя, которую ты соизволишь выделить мне и сыну.
— Ну, а как хочешь?
— Хотела, — жестко поправила она и усмехнулась: — Банально. Всего тебя — как говорили наши бабушки, «всю душу».
— Ну, и что ты будешь с ней делать? — хмуро спросил Сергей. Он глядел на нее исподлобья. Вот и год прошел, а разговор опять уткнулся в ту же самую стенку. Но дальше уступить он не мог.
— Это старый спор, — сказала она. — Я уже слышала, что ты принадлежишь человечеству. Но я не думаю, чтобы счастье человечеству принес тот, кто не способен дать счастье человеку — хотя бы одному, самому близкому.
Валерия выкрутила пеленки, распрямилась, движением шеи поправила ворот халатика. Мокрые руки она держала далеко перед собой и время от времени поддергивала рукава, как фокусник в цирке.
— Ты не сердись на меня, — сказала она неожиданно мягко. — Наверное, это жестоко — так тебе все говорить. Ведь не упрекают же горбатого за то, что он горбатый… А ты тоже — урод, моральный урод. Наверное, ты даже не понимаешь, о чем я говорю. Ведь ты — робот. Кибернетическая машина. Просто ты слышал, как принято у людей, и считаешь, что иначе неприлично. Принято чистить зубы — ты чистишь зубы. Принята женщина — значит, должна быть женщина. Ребенок тоже принят… Ты думаешь, я не знаю, как будет, если мы переедем к тебе? В твою программу впишется еще один пунктик: сын. Такое-то количество рублей ежемесячно и такое-то количество душевной теплоты.
— Ну, хорошо, — сказал он. — А твой вариант?
Она горько усмехнулась:
— Вариант!.. Боже ты мой, как я в тебя была влюблена! Как дура. Умилялась даже, что ты читаешь книги по списочку… Кстати, почему ты приехал только сейчас? Я написала уже месяц назад.
— Я не мог раньше, — ответил он и замолчал. Объяснять было бесполезно.
— Работа! — торжественно сказала она. — Неотложный эксперимент!.. Если бы ты позвал меня, я бы прилетела хоть с Сахалина, пешком бы пришла. Вот так — прочла бы письмо, встала и пошла… Ладно, повесь вот эту веревку, и будем считать, что все свои отцовские обязанности ты выполнил до конца.
Он повесил веревку, протянул ее от окна к двери, от шпингалета к толстому, неумело загнутому гвоздю. Валерия стала развешивать пеленки. Она еще говорила всякое, а он опять пропускал мимо ушей оскорбительные слова, пережидал их терпеливо, как бывалый санитар пережидает эпилептический припадок, думая о своем и привычно поддерживая голову больного. Он понимал, что уже ничего не поправишь, как приехал один, так и уедет один.