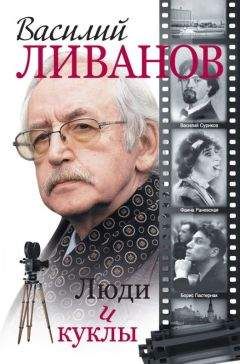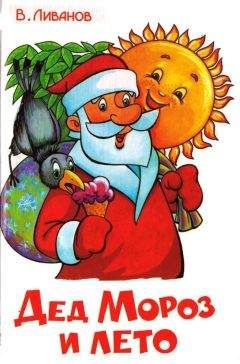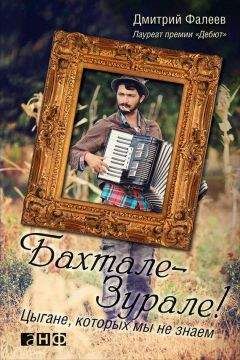Александр Ливанов - Начало времени
— И верно, это та же неправда, — откликнулся отец, — а то и хуже.
Наискось летит тенетник. Сверкает ослепительно яркой и тонкой пыльцой. Трава, плетни, даже лопухи и крапива под поповским плетнем — все–все в паутинках бабьего лета.
О чем это толкуют отец и Марчук? И я, и мать смотрим на них с тревогой. Тягостное предчувствие сжимает сердце.
…Калитку открыл нам батюшка Герасим. Сделал вполне мирской жест гостеприимного хозяина: «Милости просим». Одной рукой держа калитку за кольцо щеколды, другой, слегка даже поклонившись как воспитанный человек, показал в направлении дома. Батюшка не подавал виду, что удивлен нашему, особенно учительскому, визиту.
В дом заходить Марчук вежливо отказался. «На воздухе, если позволите, оно лучше».
Все мы уселись на лавочках того же заросшего сиренью палисада. Батюшка Герасим, в рясе, но без камилавки, убедившись, что все основательно уселись, покряхтев, сам сел на лавочку. Пальцы сложенных на животе рук батюшки подрагивают. Все же взволнован, значит, нашим приходом.
— Вы меня простите, Герасим Петрович, мне придется вас кое–чем побеспокоить… — заговорил Марчук. Странно, и он чего‑то волновался. — Здесь я принес карточки, письма вашей дочери.
— Какие карточки? Какие письма? — с испугом переспросил батюшка. Он даже привстал с лавочки.
— Карточки и письма вашей дочери… Лены. Мне стоило немало трудов их получить. Я ведь знаю, вы хлопотали и ничего не добились…
— А вы откуда знаете? Или вы это… в гепеу служите?! Не то что фотографии, даже могилку дочери не показали.
— И могилку я нашел. Я был на кладбище.
— Вы?.. Зачем вы были на кладбище?..
— Могилка — в порядке содержится. Конечно, пока без оградки. Но я цветы посадил, и оградку кузнецу заказал… Да, я вам привез выписку. С нею вас пустят, укажут могилку. Тот негодяй не только погубил девушку, оп со граждански обесчестил. Сумел оклеветать как политически неблагонадежную. Теперь честное имя вашей дочери полностью восстановлено. Вас хотели вызвать, ознакомить с документами следствия. А пока мне поручили поговорить и передать все это…
Марчук развязал сверток. Небольшую бумажку, лежавшую поверх стопки девичьих фотографий, отдал батюшке. Тот вытер изнанкой ладони глаза и торопливо принялся читать.
От писем — в одинаковых изящных конвертиках с голубой каемкой — повеял топкий аромат девичьих духов. Письма были перехвачены шелковой ленточкой. Лишь в уголках конвертов чей‑то красный карандаш проставил размашистые номера.
— Можете мне поверить — письма я не читал. Это она ему писала, когда он в губерню уехал. Они все распечатаны… Их в протоколах следствия частично приводят… Одна старая сотрудница гэпэу, знаете ли, — ее в гражданскую расстреливали, раненая трое суток лежала под трупами убитых товарищей; не старая женщина, моих лет, мне сказала: «Я каждый раз плакала, когда читала эти письма. Не плакала ни в тюрьмах, ни в ссылке. А от писем — плакала, как девчонка. Их напечатать нужно, чтоб наша молодежь знала, какая она бывает сильная — любовь».
Отец Герасим широким рукавом рясы вытирал глаза, но слезы остановить не мог.
Марчук страдальчески поморщился и замолчал. Я посмотрел на батюшку Герасима. Его голова с поредевшими и всиушенными сединами мне напомнила одуванчик под первым порывом осеннего ветра. Дряблой старческой рукой он еще и еще раз провел по лицу, стараясь унять слезы, но это ему не удавалось.
Отец все время не проронил и слова. Лишь редким тягостным вздохом напоминал о себе. Иной раз безответно находил мою руку и крепко сжимал ее, словно и меня утешал в этом неожиданном горе.
— Не плачьте, Герасим Петрович… Гордитесь, что у вас была такая дочь. Ее все любили, и учителя, и подруги по учебе. А она — по чистосердечию — полюбила очень плохого человека… Ведь она не знала. Думала, хороший человек. Она ему писала, что хочет иметь от него ребенка.
Он и это выставил как совращение его, деятеля, поповской дочерью. II ему поверили. Пока самого не разоблачили как врага нашей власти… Вообще еще многие представляют себе нартейца, как ту каменную бабу в поле, а любовь — как слабость. Дураки, ханжи и враги… Эти всегда друг дружке помогают…
— А вот, Герасим Петрович, ее фотографии. Кое–где они, не удивляйтесь, обрезаны. Там, где они вместе были. Фото нужно было размножить для опознания его. Он скрывался…
Марчук обернулся к отцу, через плечо кинул ему:
— Правая рука — Лунева… Их обоих в один день арестовали. — И снова отцу Герасиму:
— Вот тут Лена — в платье цыганки. Не подумайте чего. Это на самодеятельности снялась… Вот тут… Возле каменных львов — бывшего губернаторского дома… В общем все посмотрите сами… С вашего позволения — я у себя оставлю только одну карточку.
Марчук вынул из начки пожелтевшую карточку, где Лена стояла под цветущей яблонькой. Девушка улыбалась — вся весенняя, солнечная. Только миг учитель глянул на фото — спрятал в карман пиджака.
— А зачем, зачем вам карточка моей дочери? Не понимаю… мое дитя, я ее любил, а причем вы…
— И я ее любил, Герасим Петрович… И сейчас, покойную, люблю. Наверно, всю жизнь любить буду… И я хочу, чтоб вы это знали. Ей не сказал, вам, отцу, скажу… Считайте, что это моя… исповедь партейца.
Отец Герасим с заплаканными глазами, опустив голову, молчал, не перебивал учителя. Но тот, казалось, больше ничего не собирался говорить. Тщательно сложил бумагу, в которой был завернут сверток, сложил вдвое, затем вчетверо. Бумага больше не давала себя складывать, но Марчук с непонятным упрямством сжимал ее в руке, словно еще раз перегнуть бумагу было сейчас очень важным для него…
— Спасибо, — первым поднялся отец Герасим. — Я, простите, думал о вас… нехорошо. Партеец вы, веры и церкви враг… Или разные партейцы бывают?
— Нет, Герасим Петрович. Каждый партеец обязан быть хорошим человеком, справедливым.
— А к вам самим, кажись, не очень справедливы? Считаются, доверяют… А должности не дали…
— Должность у меня — хорошая, Герасим Петрович. И самая иартейная: быть человеком. И детей учу быть людьми. Хоть порой ошибаюсь. Но и это свойственно человеку. Блаженны только нищие духом…
— Ну дай вам бог… на вашей должности…
— Спасибо. Будьте здоровы.
Я и не заметил, как село окутали сумерки. С Днестра накатывался белесо–сизый туман. Первый огонек ярко вспыхнул в глубине темнеющих садов и огородов. Где‑то надрывно плакал ребенок.
— Пойдем, Карпуша, в сельраду. Вон уже Гаврил и лампу зажег. Первый зажег.
— Казенный керосин — не жалко, — угрюмо съязвил отец.
Марчук не заметил это, все оставаясь еще в задумчивости.
Я тихонько пожал его большую руку. Я теперь больше всех любил учителя: больше Симона, Олэны, Андрейки, Анютки. И я хотел, чтоб он это почувствовал в пожимании моей руки. Мы оба понесли утрату, которую нечем сравнить. Как поверить, что Лены больше нет в живых, что мы не услышим ее звонкого смеха, не увидим ее улыбки!..
На селе теперь только и разговоров о смерти Лены. Недавно батюшка похоронил своего вечного студента Алешу, а теперь лишился своей любимой дочери. Девушка влюбилась в какого‑то деятеля, там же, где училась; он ее бросил беременную. Лену исключили из техникума как «классово–чуждого элемента». Она, мол, «погрязла в бытовом разложении». Поговаривали, что деятель сам, перетрусив из‑за ее беременности, сообщил, что она классовый враг и учится обманом. Поэтому, мол, он порывает с нею. Он, мол, не знал раньше, что она дочь служителя культа…
Лена покончила собой. Уложила перед этим чемодан, сверху аккуратно положила письмо к родителям. Девушки в общежитии ничего не заподозрили. Лена была, как им казалось, весела, улыбалась, как всегда.
…Притихший батюшка ссутулился, посерел, бархатная, табачного цвета ряса совсем обвисла на нем. Он отмалчивался, не спорил теперь с отцом, только шептал едва слышно: «Божья воля. На все божья воля», — и вытирал слезы на своих светлых, как у Лены, глазах.
Я был немало удивлен, завидев однажды во время такого разговора слезы и на глазах отца. А еще больше меня удивило, что исполнились слова отца: как‑то он матери сказал про Лену, что «сердце у нее несдержанное— быстро сгорит девушка».
И сгорела. «Легкое дыхание рассеялось в мире»…
Все эти дни отец с нетерпением ждал возвращения Марчука из города. Даже укладываясь «на мертвый час после чарки», уже полусонный, наказывал с полатей: «Трубить подъем, если приедет Марчук!»
Во хмелю в отце нередко возрождалось пристрастие к армейским командам и казарменным словечкам.
Однажды утром Марчук сам явился к нам нежданно-негаданно, как снег на голову. Вслед за ним тут же ввалились Гаврил, Симон и Степан. В хате сразу стало темно и шумно. На лавку, предложенную матерью и уважительно обмахнутую ее фартуком, никто и не присел.