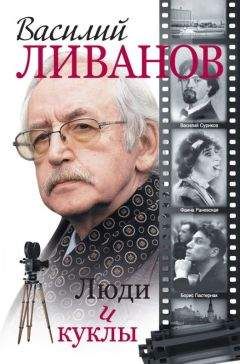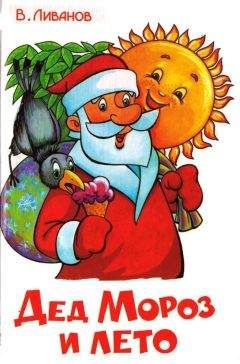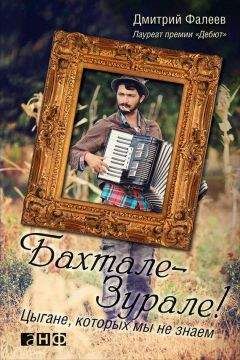Александр Ливанов - Начало времени
— Конечно, бог бабе потакатель! Она пустяками на земле не занимается, она — человека рожает. Главным делом занята. А вы рожать не могете, вот дурью и маетесь. Кто книжки читает, а кто войну затевает. — Отповедывала мать. — И родить, и вскормить, и внуков вынянчить… Всегда баба серьезным делом занята. Вот бог и потакатель ей. Вы и живете, что солома горит — пых, пых, и уже нет. Да и водкой себя травите. Рожать не умеете — вот и вся неосновательность на земле…
— Ну понеслась, как бочка с горы, — усмехнулся отец, когда мать кончила речь. Чувствовалось, отец был удивлен этими словами матери. Не оборвал ее, как обычно, выслушал ведь до конца! Задумался.
— Кой–кака правда оно, конечно, и в твоих бабьих словах. Тут рассудить — много ума надо… Не лезь бычок, где и медведи на рогатину садятся. А про книжки — это зря! Вот ум — он и есть в книжках… Думаешь, там только про то, что Иван встретил Феклу да поженились они? Есть, правда, и такие. Как лапти с кочетами. Забавы одне! А в настоящей книжке — вся философия жизни. Во! Идея там! Хоть взять Федора, постояльца нашего. Человек — мозголовый, умеет схватить суть, — а пустельга, легкий человек. До сути ему как раз и лень доходить. Он как говорит? «Кто умеет жить, тому задумываться незачем»; мол, писатели все выдумщики, привыкли несть и плесть, чтоб от себя отвесть… Не согласен я с твоим Федором! Еще в Священном писании — «Не хлебом единым».
— Почем же он мой, Федор‑то? И чего ты зачал всамомдель? —добродушно отозвалась мать. — Что не доспорил досадно, с другим доспоришь. Тебе ведь все одно — абы слушали тебя. А тот уехал — опоздала твоя отанда! Есть ему теперь с кем спорить!
…И все же в доме у нас — жаркие споры. Теперь еще одна неизбывная тема: дядя Федя, которого Марчук почему‑то невзлюбил. «Перекати–поле», «деклассированный элемент», «темная лошадка» —и другими нелестными словами высказывался учитель в адрес нашего недавнего квартиранта. Отец все же стоял горой за дядю Федю, и это мне было по душе! Корысти в нем — нисколечко. Значит, хороший человек!
Потом о дяде Феде толковал отец и с батюшкой Герасимом. Тот степенно вытирал большим платком складчатую, рыхлую шею, раздумчиво кашлял в кулак и пускался в отвлеченные суждения — что такое вообще хороший человек? Выходило у батюшки совсем уж что‑то несуразное, мудреное. Мол, может, дядя Федя и хороший человек, по способен ли он страдать? Вряд ли! А коль так, стало быть, в нем совесть залетная, не своя. Побывал в переплетах, а душа невинная, как у младенца. Что не ожесточился, и на том спасибо. «А вот душой пострадал бы, бога нашел бы… Ведь бог — не существо, а живая совесть. А то ухмылки да ужимки, да людей потешать… Скоморошество это!»
— А я, я что же — не страдаю я?., или тоже… скоморошество? — желчно спросил отец. — Мужик — порченый, не хозяин? Что же я за человек?
— Ты, Карпуша, ты другое дело… Кто страдает — тот и верует. Ты сам себя не знаешь. Но ежли ты поверишь — на костер пойдешь.
— А как же это с книгами вашими вяжется? Неверующий, а верующий…
— Книги люди пишут. А бога по книгам понять всего нельзя…
Зато Марью Дмитриевну отец не жаловал. Слыханное ли дело — бежать с любовником от мужа! И пускался в длинные рассуждения, из которых вытекало, что мужчины благородней женщин; что мужчина, мол, просто может оставить женщину ради другой женщины, но никогда не поднимется у него рука, чтобы, скажем, убить ее. Даже у разбойника или бандита!
— Как же не убивали женщин? — шевелил кустистые седые брови батюшка. — И в писании, и в светской литературе… Ты же брал у меня и Мериме, и Достоевского…
— Это другое дело! — как всегда горячо наскакивал отец. — Это из любви! Так сказать — почетная смерть! Ему бы легче себя убить, а он — ее из любви убивает! Во! А женщина — та сама вложит топор в руки полюбовника. Да еще пристыдит, трусом назовет, если руки будут дрожать, когда вознесет этот топор над спящим супругом ее. А то и сама отравит. Даже ребенка ради любовника убиет!..
— На все воля божья, — вздохнул батюшка и слегка прихлопнул бледной склеротической рукой по столу. — Толковать о греховном — тоже грех. Что хочет женщина — того хочет бог! Она ближе к природе, а любовь и материнство — для нее главное… Конечно, Марья Дмитриевна преступила клятву, но детей у нее не было. Это во-первых. Во–вторых, в Священном писании сказано: «прелюбодеяние». Смертный грех! Переступив через любовь, она же, если разобраться, может, прелюбодействовала с мужем, а печника… Печника любила; так что, Карпуша, господь их рассудит…
Мать, неизменно находившаяся у печи, точно кочегар у паровозной топки, на миг отвлеклась от дела. Она оперлась в ухват и во все глаза смотрела на батюшку. И это он, отец Герасим, так говорит о святом церковном браке! «Видно, все в этом мире смешалось!..» —вздыхала мать.
Да и могло ли не «смешаться все в этом мире», если батюшка теперь допоздна засиживался не за церковными книгами, а за теми книгами и брошюрами, которые дети его навезли полный дом. Уже не говоря про газету, которую жадно перечитывал от первой до последней строчки. Жизнь утратила свою привычную колею, выбиваясь на новый, широкий большак, и батюшка, испытывая большое смущение духа, это чувствовал, думал, присматриваясь с большим любопытством ко всему вокруг. Какие новые духовные начала взамен старому собирается дать человеку новая жизнь?
Слова батюшки Герасима повергли в задумчивость и отца. За последнее время, как занялся скорняжным ремеслом и бросил пить, он все чаще спорил с Марчуком и все больше прислушивался к рассуждениям батюшки. Это огорчало Марчука и радовало мать, все еще не терявшую надежду обратить к богу отца. «В твоего глупого бога только дурак поверит», — говорил отец. «А ты в своего, умного, поверь», — простодушно советовала мать. «Вот, вот! Нет еще моего бога! Не слепился…» — сердился отец. «И не слепится, пока не поверишь и беситься не перестанешь», — уже совсем кротко заканчивала мать, боясь, что отец взорвется. Она каждый раз благодарила батюшку Герасима за визит и искренне просила не забывать нас, заходить. А батюшку и просить не приходилось. Сыновья, выучившись, теперь и вовсе не приезжали. Они и письма не писали. Отец это объяснял тем, что опасались, как бы через переписку не установили, что родитель их «служитель культа». «А то быстро вышибут с места, тут же волчий билет в зубы — и пустят по миру!»
Родителям, одинаково любившим и учителя–партийца и служителя культа батюшку Герасима, трудно было решиться на что‑нибудь определенное. «Все люди, все разные, и все грешные», — бывало, скажет мать и, повздыхав, возвращалась к печи, к своим горшкам. Отец укладывался поудобней на полатях. Сезон на скорняцкую работу прошел, и он, стараясь наверстать время, теперь «глотал» поповские книги в красных коленкоровых переплетах, с мудреным золотистым тиснением. Были на этом тиснении и пухлые амуры с крылышками, и колчаны со стрелами, и раструбы свирелей. Я уже знал буквы, а поскольку на обложках книг они были большие и яркие, мне нетрудно было установить, что книги эти являются «сочинениями Достоевского»: чисто одетого, но с мужицкой бородой, впалыми небритыми щеками и острыми скулами. После чтения этих книг отец становился до рассеянности задумчивым. Я, бывало, подолгу смотрел на портрет писателя. Глаза, полные живой мысли, казалось, смотрели не на меня с этого одухотворенного лица, а в глубь собственной души. Откуда мне было знать, что душа эта была необъятна, как целый мир!..
Да, их было четверо. Долговязых, злых, ловких. Сатиновые рубашки, потемневшие от пота, липли к немытому телу. От них разило дурным запахом водки, тлена и псины. Их никто и ничто не интересовало на селе, кроме… собак. Они были вооружены длинными и тонкими шестами, к концу которых привязывалась веревка. Железным кольцом веревка скользила посредине длинного шеста; скользила, когда тянули — дергали свободный конец. Ловко дергала его умелая рука, когда в петлю попадалась несчастная собака!..
Собаколовов на селе называли — гицелями. В одном этом слове слышалось что‑то свирепо–хищное, несдержанно–жестокое; своими шестами, возбужденные и злые, гицеля рыскали по селу, загоняя обезумевших от ужаса собак в узкие переулки, где устраивались засады. Спасающуюся бегством собаку гицель поджидал в конце переулка, прячась за угол плетня и расслабив петлю на шесте.
И когда собака уже считала себя спасенной, в этот миг гицель ей накидывал петлю на шею и тут же, дергая кольцо, намертво зажимал собачье горло между веревкой и шестом. Взмах шеста, — собака, точно рыба, попавшая на крючок, взлетает в воздух и падает в верхний люк собаколовной повозки. Люк сверху ящика, он открывается и захлопывается другим гицелем тоже посредством веревки. Это проделывается с такой ловкостью, быстротой и расчетливостью, что ни одна собака не успевает выскочить из люка, открываемого для бросания в ящик очередной жертвы. Ни одна собака не может спастись от гицелей…