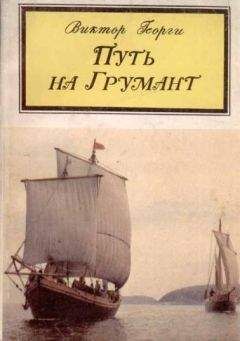Сергей Никитин - Рисунок акварелью (Повести и рассказы)
Издалека, точно невнятное бормотание, доносились раскаты грома, полыхали красноватые зарницы, и в кустах вдруг начинал ворочаться ветер. В клубе было жарко, и теперь от этой жары и недавних слез у Веры Петровны горело лицо. Она подставляла его под порывы ветра, прижимала к щекам прохладные листья прибрежного ивняка, но это не освежило ее, н тогда, сняв туфли и подобрав юбку, она вошла в воду, зачерпнула ладонью и напилась. В камышах ударила крупная рыба, коротко вскрикнула потревоженная ею утка, и опять тихо, только где-то очень далеко, должно быть, в соседней деревне, с тоскливым подвывом лаяла собака. Чувствуя, как река перекатывает через ее ноги мелкие камешки, Вера Петровна улыбнулась и хотела бежать наверх, но в это время раздались чьи-то быстрые тяжелые шаги, и высокая тень остановилась на берегу, почти сливаясь с кустами.
— Кто это? — испуганно спросила Вера Петровна.
Никто не ответил, только снова простучали те же тяжелые шаги.
"Прохожий", — успокоенно подумала Вера Петровна, надела туфли и пошла назад, в городок.
На улицах было темно, лишь фабричный корпус сиял голубоватым пламенем ламп дневного света, бросая поперек реки дрожащие блики. Ветер уже дул с постоянной силой — очевидно, приближалась гроза, и раскаты грома, вначале далекие, слышались ближе.
У дома на лавочке кто-то сидел. Всмотревшись, Вера Петровна узнала Нюшку и села рядом с ней.
— А мы танцевали и только сейчас кончили, — сказала Нюшка. — Куда же вы пропали?
В день приезда Веры Петровны она на правах соседки заскочила к тетке Марье будто бы за солью и, прислонясь к косяку, стала смотреть на гостью во все глаза, и в них легко можно было прочесть: "Ах, как мне хочется познакомиться с вами! Как мне хочется, чтобы вы заговорили со мной!.."
Вера Петровна заговорила и с тех пор уже постоянно чувствовала на себе пристальное внимание Нюшки.
Они долго сидели молча. Вдруг яркая голубая молния расколола тьму и вслед за ней ударил трескучий, без раскатов гром, словно вверху переломили сразу тысячу тугих палок.
— Ой, ой! — закричала Нюшка, но в голосе ее послышался не испуг, а какой-то восторг.
И Вера Петровна вспомнила, как в детстве она не боялась грозы, и в то время, когда все живое искало укрытия, она, охваченная какой-то бесноватой радостью, бегала и отплясывала под дождем.
— Я где-то читала, — заговорила она, — что на земном шаре происходит шестнадцать миллионов гроз в год и падает полторы тысячи молний в каждую секунду. Если иметь в виду, что мы видим не так уж много гроз, то представь, Нюшка, какая огромная эта земля!
"Огромная земля! Огромная земля!" — пело что-то в груди у Нюшки.
Она чувствовала, как ветер дышал ей в лицо свежим запахом дождя, видела, как там, куда еще не пришли тучи, по черному августовскому небу, перечеркивая его наискось, стремительно, но удивительно долго катилась зеленая звезда, и чувство невыразимого, ей самой непонятного счастья охватило ее, и она засмеялась.
А в это время Степан шагал без цели по окрестным дорогам. Вернувшись из клуба, он, мрачный, долго сидел в горнице, барабаня пальцами по крышке стола. Со стены на него смотрели пустыми глазами жирные русалки, и были до тошноты противны ему, и все в родном доме — пёстрые половики, лежанка, вылезшая на середину горницы, бревенчатые стены с проконопаченными пазами — все тоже почему-то было противно и ненавистно.
Он никогда бы не сознался себе в том, что завидует Вере. Завидует той любви, почтению и вниманию, которыми ее окружают все, вплоть до Нюшки, почитавшей, казалось, только его одного. Случилось так, что всего, о чем он мечтал — быть знаменитым и приехать в городок, вызывая почтительное удивление односельчан, — всего этого добился другой человек, росший вместе с ним, а он вот смалодушничал, струсил и теперь малюет русалок. Но и в этом он не хотел признаться себе и старался найти того, по чьей вине жизнь его сложилась так, а не иначе. И когда к нему подошла мать и спросила, не хочет ли он есть, он вдруг решил:
"Вот кто виноват во всем! Это она жадничала и возила дрянные картины на базар, это она уговаривала его не уезжать!"
Он вскочил, наговорил матери много несправедливого, грубого, оскорбительного, хлопнул дверью и зашагал прочь от городка, сам не зная куда и зачем. У реки он наткнулся в потемках на Веру и, когда она окликнула его, не ответив, пошел дальше. И там, где ей было так хорошо, ему в тот вечер все казалось постылым и ненавистным.
1953Каникулы
Никита Антонович Батраков — учитель русского языка и литературы в селе Лужки — ждал на каникулы сына студента.
Уже два года Роман не был дома. Отцу он редко, но обстоятельно писал о Третьяковской галерее, об исторических, литературных, технических музеях, о театрах, концертных залах, публичных библиотеках, и у Никиты Антоновича сложилось убеждение, что сын много работает над собой. Впрочем, зная Рому, зная его твердый целеустремленный характер, иначе и нельзя было думать. Еще в школьные годы с разумной сдержанностью относился он ко всему, что могло отвлечь его от намеченной цели, а этой целью, этой путеводной звездой его жизни были глубокие, всеобъемлющие знания.
Вся семья Батраковых, затаив дыхание, ожидала своего любимца. Учителю виделось, как он и сын сочно ширкают в лугах косами, или, возвращаясь с охоты, ночуют в чужой деревне, а на рассвете дружный летний дождь барабанит по крыше сарая — они просыпаются, садятся ка пороге, курят и говорят о новых веяниях в педагогике, о Тургеневе, о Москве, о международной политике.
Дед Василий стал в эти дни чаше слезать с печи, садился у окна и дрожащими пальцами вил волосяные лески. Мать — Анна Васильевна — была вся в заботах о простокваше, студне, цыплятах. И даже квартирантка, молодая учительница Елена Петровна Яхонтова, недавно поселившаяся у Батраковых с трехлетним сыном Аликом, разделяла это общее возбуждение, безотчетно питая, быть может, какие-то свои вдовьи надежды.
И вот Роман появился в Лужках.
Был мертвый деревенский полдень, когда в лопухах под плетнями сонно стонут разморенные жарой куры да мутноглазые собаки вяло тявкают вслед редкому прохожему. Алик — тоненький, гибкий мальчик, играя на крыльце учительского дома, первый встретил долгожданного гостя.
В сером костюме, с чемоданом в одной руке, с пыльником, перекинутым через другую, — он стоял на нижней ступеньке крыльца, улыбаясь, смотрел на Алика, и тот, обычно застенчивый и диковатый с незнакомыми людьми, вдруг тоже улыбнулся и доверчиво спросил:
Вас как звать?
— Не знаю, — вздохнул гость.
— Так не бывает, — подумав, сказал Алик.
— А вот бывает. Потерял я свое имя. Обронил где-то тут в траве и не нашел… А тебя как звать?
— Алик… Какое же оно у вас было?
— Да вот такое, — показал гость из-под пыльника раздвинутые на четверть пальцы, — длинненькое, зеленое…
Чувствуя, что начинается какая-то интересная, неведомая ему игра, Алик соскользнул с крыльца и обвел жестом прозрачной руки лужайку перед домом.
— Здесь потеряли?
— Здесь.
— Ну, я вам найду его, — пообещал он, и гордый тем, что оказывает покровительство этому большому и, наверно, очень сильному человеку, взял его за рукав и повел в дом.
Утром, чуть стало светать, Романа разбудил дед Василий.
— Ну-тко, хватит спать-то, — сказал он, присаживаясь у кровати и кладя ему на грудь сухую кривопалую руку.
— Что, дед, рыбу пойдем ловить? — сонно пробормотал Роман.
— Сходим, сходим, я лесок наплел. Отец-то косить тебя ждал. А мы сходим…
Роман тряхнул головой и сел на кровати.
— Пойдем, дед, сейчас.
— Куда это вы собираетесь? — спросил учитель, входя в горницу.
Человек несокрушимого здоровья, он выглядел значительно моложе своих шестидесяти лет, а блестящая бритая голова, пышные несвалявшиеся усы и сурового полотна рубашка, вышитая по вороту и подолу ярким крестиком, сообщали всему его облику ощущение чистоты и свежести.
— Ты, дед, не сманивай Ромку, мы с ним косить пойдем, — сказал он. — Пойдешь, студент?
— Я чувствую, что умру, если сейчас же не закину удочку, — засмеялся Роман. — Ты подожди денек-другой.
До сих пор Никита Антонович временил с покосом, зная, что лишит сына особого, не всем понятного, удовольствия отмахать косой, глотая соленый пот, от зари до зари, а вечером дотащиться петляющими шагами до вороха свежего сена и нырнуть, как в темный омут, в глухой, мгновенный сон. Но больше он не мог ждать. Сенокосная пора отходила, колхозники давно уже выметали стога, а на его участке все еще колыхалась высокая густая трава, увядая от губительной ласки горячих ветров. В Никите Антоновиче заговорила неистребимая крестьянская природа, ревнивая к порядку в хозяйстве.