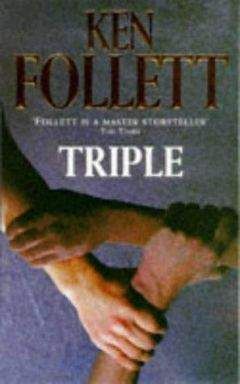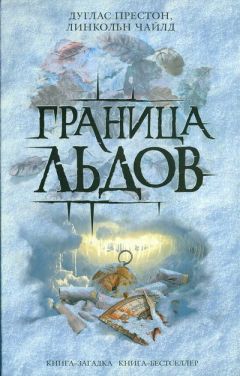Олег Меркулов - Комбат Ардатов
— Не чешет, а говорит, — возразил Белоконю Чесноков. — У тебя такая красивая фамилия, а говоришь ты некрасиво: «Чешет!», «Шухры-мухры».
Белоконь хлопнул Чеснокова по плечу. Ардатов вздрогнул.
— Ах, ты мой красавчик! — На Белоконя спирт, видимо, подействовал просто подбодряюще. Белоконю тоже хотелось потрепаться. — Не ходи ко мне матаня. Не заглядывай в окно. По утрам моя маманя варит свеже толокно, — пропел он.
Ардатов сел.
— Кончай!
— Есть кончать! — согласился Белоконь, и Ардатов услышал еще отрывок из того, что говорил Старобельский Наде:
— Но что главное во всех добрых и светлых делах человека? Что основа в них? — Старобельский сделал паузу, как бы давая время Наде подумать. — Стремление служить не себе, а другому, другим. Человек, Надя, велик только тогда, когда он не живет ради себя. Именно тогда и умирает в нем обезьяна, и начинается человек. Когда он готов за друга живот положити…
Конечно, больше нескольких секунд Белоконь молчать не мог. Спирт требовал разговоров.
— Мне он, этот дед, кажется, товарищ капитан, как король треф. Такая же бородища, и смотрит так же: как-то сразу и строго и добро. Только тощий, несчастный какой-то. Но что он наш — ручаюсь. Хотя и из благородных. Это видать. Но ведь теперь голубая кровь, как говорится, нужна только для заправки авторучек.
— А может, как король Лир, — возразил Чесноков. — Тот тоже несчастный.
— Лир? — переспросил Белоконь. — Такой масти я не знаю. Это что, пятая? Как значок у музвзвода? Он меня разыгрывает, этот Чеснок? Да, товарищ капитан?
Белоконь, соблюдая одновременно и почтительность к старшему, и в то же время некое равенство, созданное обстоятельствами, в которых они все — по большому счету — были равны, ждал разъяснения насчет этой пятой масти. Он даже наклонил голову чуть набок, и Ардатов должен был ответить.
— Нет, это не масть, не карты — Лир был человек. Старик. Не живой, а герой одной книги. Вернее, драмы Шекспира. В общем, был порядочный человек, который жил среди подлецов.
— Не читал, — признался Белоконь. — Нет, не читал. Даже, не слышал. Я ведь из лесорубов. — объяснит он, как бы извиняясь. — Вообще-то хорошо почитать интересную книжонку, но, бывало, так надергаешься за пилу, намахаешься топором, что рад добраться до барака да на нары.
— А в отпуске? — запальчиво спросил Чесноков. — Эх, ты, темнота!
— А что в отпуске! — возразил Белоконь. — Отпуск ость отпуск. Значит отдых. Охота и прочее. Но разик я съездил в санаторий. По путевке. Эх-ма! — вспомнил он. — Ливадия, Алупка, Черное море. Шашлычок по-карски. Винцо: пей — не хочу.
— Да!.. — мечтательно протянул Белоконь. — Другой раз вспомнишь и не веришь, что была такая жизнь. Вы-то сами были на море? — спросил он Ардатова. — Нет? Но может, еще побудете. Как в сказке. Едешь себе в купе, в окно поглядываешь, пивко потягиваешь, а у самого пачка денег, а впереди — черт знает что и эта штучка с ручкой. Станции, вокзалы, буфеты. Публика по перрону прогуливается…
— И радио объявляет: «Граждане, едущие в отпуск — ресторан направо.
— Граждане, едущие из отпуска, кипяток налево!» — вставил Щеголев.
При всей нелепости этого объявления, при всем несоответствии его к их нынешнему положению, Ардатов не мог не усмехнуться.
— Ну, что ж…
— И целый день в одних трусах на берегу. Ходишь среди купальщиц самоваром!.. — делился своими воспоминаниями об отпуске Белоконь.
Положив руки на бедра и оттопырив локти, он изобразил этот самовар.
— Кто ты там — директор, летчик или кэкэпэ — не важно. Там, у моря, не это главное…
— Кто это, «кэкэпэ», — спросил, не поняв Чесноков.
— Сам ты темнота! Чернорабочий. «Кто-куда-пошлет», — объяснил Белоконь. — А вечером — на бульвар, туда, где все тебе, словно опились травы для присухи, косоротят любовь! Знаете, есть такое, говорят, приворотное зелье, бабки варят. Знаешь, Чеснок? Нет? Берегись ого! Имей ввиду, присушит какая-нибудь кикимора, и — пропал ты!..
— Там сейчас, в Ливадии, фрицы, — бросил Ардатов. — Они ходят самоваром.
С лица Белоконя сбежало выражение беспечности, он насупился, но все так же держа руки на бедрах, посмотрел в сторону немцев и сплюнул.
— То-то и оно, что не мы! Мы тут вроде кротов. Не до шашлычков. — Он еще раз сплюнул. — Но ведь и нельзя же им такое подарить насовсем! Больно жирно жить будут! Как бы у них от жиру печень не заболела! Говорят, жир для печени вредный. Ничего, капитан. Отобьем…
— Отобьем, — согласился Ардатов, думая, что, конечно, они рано или поздно, но и Крым отобьют, как и все остальное, но в то же время никак не будучи в силах избавиться от нелепейших слов Белоконя насчет приворотного зелья, насчет того, что кто-то кого-то может опоить или присушить к себе.
«А если она, Валентина, именно опоила меня? — глупо подумал он. — Да нет, глупость. Но ведь не все и так просто, не так-то легко и понять все это!»
Понять, и верно, было трудно.
С Валентиной он сблизился в госпитале. Она пришла с шефами от школы, пришла в палату с дюжиной старшеклассников.
Все в его палате уже не считались тяжелыми, то есть могли ходить, садились к длинному столу, который занимал центр палаты, обедать, резаться в домино, вечером добирались до клуба, где им крутили кино или давался концерт силами самодеятельности.
Если кому-нибудь делали повторную операцию или делали третью или четвертую, то оперированного помещали в другую палату, к таким же беднягам, чтобы ему никто не мешал настонаться и чтобы он не мешал выздоравливающим спать.
Так как каждый проходил этот путь, то ничего обидного в нем не усматривалось: за неделю, кто и раньше, человек приходил в себя — боль спадала, муки заканчивались, и его переводили на прежнюю койку. На ней он и лежал еще сколько-то: месяц, два, три, пока его или не списывали из армии или не выписывали в часть или в резерв. Словом, жить было можно, если бы не заедала скука.
Как раз дней за десять до прихода шефов Ардатов был переведен из послеоперационной на свое место и, как говорила одна нянечка, вновь увидел свет. Раны уже не болели так сильно, они просто ныли, к этому можно было притерпеться, а если человек, выбрав удобное положение, не дергался резко, то боль почти затихала, и жизнь становилась вообще сносной.
Когда Ардатов добрался до этой ипостаси раненых, пришли шефы. Он нуждался в книгах и был рад шефам, хотя ему, как и всем в палате, было неловко от того, что детвора так старалась для них. Детвора шила кисеты, добывала махорку, чтобы насыпать в эти кисеты, пекла домашнее печенье из пайковой муки, на пайковом же жиру жарила рыбу, которую ребята ходили ловить специально для них.
Шефы с запалом читали им стихи про войну, про преданность Родине, про то, как надо умирать, а не сдаваться, и про то, что они готовы, когда придет их черед, ехать на фронт, где, доказывая преданность своей Родине, будут умирать, но не сдадутся…
После стихов девочки и ребята смущенно рассказывали про субботники и воскресники в фонд обороны. Раненые уступали им места за столом, но так как вся детвора не помещалась на стульях, кое-кто, отнекиваясь сначала, сел и на кровати.
К Ардатову сели две девочки, робко устроившись на самом краешке, и ему было и смешно и трогательно их видеть так близко. Ему все хотелось погладить их по детским головенкам, по хрупким плечикам.
Кто-то из раненых предложил вместе поужинать, предложение всей палатой было поддержано, на кухню отправилась делегация с требованием разложить ужин раненых на число всех ртов. Дежурный по кухне сдался, и хотя порции получились микроскопическими, печенье плюс жареная рыба плюс эти порции составили неплохой ужин, который присутствующими был съеден без остатка.
Раненые смотрели, как, скрывая голод, уничтожала еду детвора, и подвигали ей кусочки покрупней.
Когда детвора ушла, палата всем вдруг показалась странно большой, странно тихой и очень пустой.
Потом, уже не так официально, а проще и не в таком количестве, а сменными тройками, пятерками детвора навещала их раз-два в неделю. К ней привыкли, узнали многое о ее житье-бытье, с ней сжились, как с какими-то не то мелкокалиберными друзьями, не то племяшами и племянницами. Если же шефы почему-то долго не появлялись, все начинали испытывать беспокойство, обсуждали причины задержки, потом кто-то пробивался к телефону начальника госпиталя, названивал в школу, говорил, что соскучились, просил прийти.
Что ж, это тоже была человеческая жизнь, и Ардатову было жаль расставаться с ней. Ему было горько, что в следующий приход шефов кто-то из них, увидев, что его место занято другим, скажет: «А Константин Константинович?.. Выписался?» И, быть может, пожалеет, что его уже нет, что он далеко, но пожалеет не надолго, на какие-то секунды, потому что на Ардатове не кончалась же жизнь. Ее дела, ее заботы были бесконечны, и к одному чему-то свести ее было нельзя, к тому же детворе не свойственно жить прошлым и, конечно же, никто из вихрастых, худых мальчишек и никто из худеньких девочек, не вспоминал его с грустью. А вот он вспоминал их так. Для него они были страничкой жизни. Он дорожил этими страничками, потому что сами по себе они были прекрасны и потому что сколько оставалось вообще страничек в его жизни, было неизвестно.