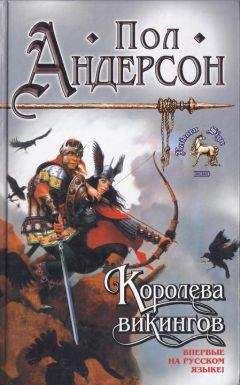Айбек - Детство (Повесть)
В Янги-базаре я не стал задерживаться, вскоре уехал в Ташкент и наутро, перекинув через плечо сумку, уже пошел в школу.
В школе все было по-прежнему: тот же нудный галдеж, та же беспрерывная зубрежка. Только учитель наш теперь нередко среди урока, прервав занятия, начинал жаловаться на смутность времени, твердил, что умножается число дурных людей, и наставлял нас: «Да облегчит всевышний все наши затруднения!.. Уважайте улемов, дети мои, помните о шариате, о судном дне. Улемы — единственные наставники народа, его заступники и руководители!»
После школы я, как всегда, провожу время на улице, на крышах, на гузаре.
* * *Большая часть жителей квартала Гавкуш ремесленники. Ахмад и Агзам поступили учениками к сапожнику. Я часто захожу к ним. Сапожник, полный, коренастый человек. Руки у него всегда в работе, и на секунду не знают покоя, но сам он веселый, и поболтать любит.
Однажды, как только я переступил порог мастерской, Ахмад, проворно соскочив со своего места, бережно взял с полки в нише толстую книгу и протянул ее мне:
— Взгляни-ка!
Я с интересом перелистываю книгу. Спрашиваю, тупая обложку:
— Где ты взял? Совсем новая!
— Накопил денег и вот купил, — улыбается Ахмад.
— А ну, почитай нам, грамотей, а мы послушаем. Хорошая книга, одни сравнения от начала до конца, — говорит мастер, поправляя очки.
Книга эта — перевод с персидского, она состояла из легенд и мифических сказаний о богатырях, о жестоких войнах и сражениях. Ахмад, продолжая забивать в кауш деревянные шпильки, слушает, весь отдавшись рассказу, сосредоточенный, словно мысленно пытается разобраться в прочитанном. Агзам старательно строчит дратвой голенище ичига, лежащего на коленях, а сам волнуется, вздыхает время от времени: «Ух, ну и удальцы», Или: «А кони у них, как облака быстрые!»
Я читаю без остановки. Звон наводящих ужас богатырских мечей, посвист стрел, поединки на копьях со щитами, искусство и отвага богатырей, хитрость и коварство женщин — все это рушится на моих слушателей без перерыва.
Агзам не может спокойно сидеть, волнуется, переживает.
— Люди в те времена были исполинами, как дивы, — говорит он. — Голова с котел, ростом под небеса, плечи-мостом между двух гор могли служить. А потом мельчали, мельчали и вот мы уже стали с кошку.
— Постой, помолчи! — сердито прерывает его Ахмад. — Битва в самом разгаре, дай послушать.
В книге между описаниями шумных сражений есть такие яркие места, такие чудесные рассказы, что невольно захватывают мое воображение и уносят меня в далекие — края.
Мастер опрыскивает кожу водой: «Пуф-пуф», ухмыляется, пристает к Ахмаду:
— Вот, Ахмадбай, был бы ты возлюбленным пери…
— Сказал бы я вам, мастер, словечко, — перебивает его Ахмад, — да вы мне в отцы годитесь, жалею. — И ко мне: — Давай, Мусабай, читай про Рустама-дастана, про Афросиаба!
Я продолжаю чтение. Переживаю из-за богатырей, погибших в бою, время от времени незаметно смахиваю невольные слезы. Вхожу в замки, в дворцы гордых царевичей, вижу страдания влюбленных царевен в разлуке, ненавижу коварных соглядатаев, пылаю любовью к героям, подобным Афросиабу.
В мастерскую неожиданно вбегает запыхавшийся. Тургун:
— Идем, быстро! Бросай свою книгу, все это брехня сплошная.
Положив закладку, я закрываю книгу.
— Что случилось?
— В нашем квартале идет такая потасовка! Идем быстрей!
— Ты что, караульщик квартала или миршаб? Не шуми, отправляйся отсюда! — кричит на него мастер. — Читай, Мусабай, дальше.
Я молча кладу книгу на полку и выхожу вслед за Тургуном на улицу.
— Эх, и знаменитый скандал там идет, вот позабавимся! — захлебываясь, говорит Тургун. — Расуль-орус со своими поденщиками схватился на кулачки. Поденщики требуют расчета, а Расуль отказывается, зря, говорит, требуете.
Расуль, слывший среди жителей квартала безбожником-кяфиром, никогда не посещавший мечети, однажды неожиданно заявился туда, покаялся перед имамом и дал обет построить минарет. Слово свое он сдержал, минарет строить начал, но очень экономил и всячески прижимал рабочих.
Я отмахиваюсь:
— Ну тебя! Тебе бы только драками забавляться! — и тащу Тургуна на Шейхантаур, где по слухам должно было состояться какое-то собрание.
* * *Во дворе мечети на Шейхантауре толпится народ. Много молодых людей в ярких шелковых халатах, надетых поверх чесучовых или белых коломенковых камзолов, среди них немало франтов, одетых с явной претензией на щегольство. То там, то здесь белеют огромные чалмы, обладатели которых облачены в просторные полосатые или из шелковой бенаресской ткани халаты. Но большинство — люди бедные в грязных латаных халатах или в длинных рубахах и в грубых каушах на босу ногу.
Прислушиваясь к разговорам, мы с Тургуном обходим двор и затем опускаемся на корточки, прислонившись к стволу толстого карагача. Неподалеку от нас на террасе вокруг стола, покрытого потертым сукном, расположился президиум из десяти-пятнадцати человек — все ученые-интеллигенты, в большинстве джадиды.
На трибуне рядом со столом — оратор, одетый в коломенковый камзол, человек с тонкими усиками, острыми жесткими глазами, покатым лбом и с бархатной тюбетейкой на бритой макушке. Брызгая слюной, он долго говорит о «славном прошлом Туркестана», о вере, о шариате, о «напоенных национальным духом обычаях и установлениях». Восхваляет Временное правительство и обещает возвращение былой славы Туркестана, если «объединятся в основном люди достойные — богатые купцы, владельцы больших поместий». Определяет, как главную задачу: «понемногу, помня о святости веры, развивать школы и медресе введением таких наук как геометрия, астрономия, математика и им подобные. Наконец, уморившись, умолкает, занимает свое место за столом и тут же кидает под язык горсть насвая.
Тургун толкает меня локтем под бок:
— Пошли, пройдемся по кладбищу. Ребята, наверное, там в ашички играют.
— Постой, послушаем немного, — говорю я и показываю пальцем в сторону президиума. — Смотри, вон новый говорун выходит на трибуну.
Но Тургун машет рукой:
— Э, чего тут интересного? — Оттолкнувшись от карагача, он решительно вскакивает и исчезает куда-то.
Ораторы и правда, будто сговорившись заранее, все как один прежде всего напоминают о вере, о шариате, затем восхваляют Временное правительство и твердят о «постепенном, с помощью аллаха, прогрессе Туркестана».
Из толпы кто-то кричит:
— Ей богу, ну что это за разговоры? Все только и знают читать наставления. Народ в хлебе нуждается, а не в наставлениях! Почему улемы, баи, ученые ни словом не обмолвятся об этом?
Я срываюсь с места и стараюсь пробраться к бросившему реплику.
Им оказался знакомый сапожник, работавший в маленькой тесной мастерской у Балянд-мечети. К нему подступили несколько щеголей в шелковых халатах, орут на него с пеной у рта:
— Убирайся отсюда! Проваливай, нечего сеять смуту в народе!
Вокруг слышится ропот, возмущение. Я подхожу к сапожнику, отдаю салам. Тот улыбается:
— А, и ты здесь?
— Я уже давно сижу, слушаю, — отвечаю я и, понизив голос, шепчу с искренним восхищением: — а вы здорово поддели баев, мастер!
Сапожник, усмехнувшись, молча кивает в сторону президиума.
Из-за стола поднимается плотный приземистый человек, с черной, коротко подстриженной бородой. На нем — просторный шелковый халат, одетый поверх новенького чесучевого камзола, на голове — изящно намотанная, сверкающая белизной чалма. Это один из руководителей шураисламистов по прозвищу Кары.
Кары говорит густым басом внушительно, подчеркивая каждое слово:
— Господа! Досточтимые улемы! Туркестан встает на ноги, избавившись от векового мрака. Наш небосклон проясняется. В Петрограде у власти встали очень разумные и распорядительные люди во главе с известным нам господином Керенским…
Видимо, уловив настроение собравшихся, он упоминает о дороговизне: «Дороговизна растет сверх всякой меры, бедные, неимущие терпят нужду. Но, положившись на аллаха, будем надеяться, что затруднениям этим придет конец, и наш народ получит довольно и ячменя и пшеницы». Даже бросает упрек баям за то, что «глаза их не видят ничего, кроме своего кошелька». Но суть его речи сводится все к тому же призыву: «Объединиться досточтимым улемам, баям и ученым-интеллигентам и, перепоясавшись поясом рвения, с усердием и верой решить главную задачу: вызволить народ — ремесленников, рабочая чих — из тьмы невежества, воспитывать их, наставлять В вере ислама».
Заканчивает он обычным: «Омин! Да облегчатся все наши затруднения!» и, улыбаясь на довольно жидкие хлопки в ладоши, отходит к столу.
Время уже позднее. Ко мне возвращается Тургун. Не сговариваясь, мы проскальзываем к выходу и бежим домой.