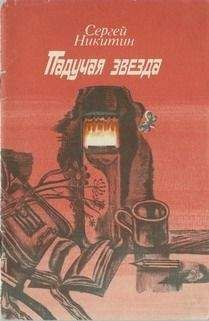Борис Лавренев - Полынь-трава
Курсант внимательно смотрел на свои руки, лежащие на коленях.
— А чем же я могу помочь, товарищ Аня? Как помочь?
— Право, я сама не знаю. Я чувствую, что говорю глупости. Но это меня мучит третий день. Вы идете на фронт… Может быть… если он попадется в ваши руки, — бывают всякие случаи, — оставьте ему жизнь. Когда он будет здесь, он станет нашим…
Она замолчала.
Роман медленно поднял голову со сжатыми губами.
— Вот что, Аня! Вы мне только скажите, где он, в какой части, и напишите записку от себя, чтоб он знал. А я даю слово, что из кожи вылезу, а доберусь или найду способ передать ему. Другого сам бы зубами разорвал, а ежели он ваш брат… — Он внезапно оборвал речь и покраснел.
— Письмо? Письмо я написала ему еще позавчера. Он в Ростове, в кавалерийском училище.
— Однооружник, значит? Тем лучше! Еще вместях повоюем. Давайте письмо.
Он взял серый казенный конверт и спрятал его во внутренний карман гимнастерки.
— Спасибо, Роман! Спасибо, товарищ! — Аня протянула руку и встретила опять сжимающее пальцы пожатие курсанта.
Сзади зашипел и забрызгал паром чайник. Роман быстро освободил руку и побежал к печке. Товарищ Белоклинская проводила его расширенными потемневшими глазами и беспомощной улыбкой.
Он обернулся от печки и сказал почему-то шепотом;
— Давайте стакан, я налью вам.
Товарищ Белоклинская коротко вздохнула и прижала ладонь к груди.
— Не нужно чаю, Роман. Идите сюда.
И когда курсант подошел, удивленный, внезапно побледневший, девушка положила руки ему на плечи, подалась к нему любовным движением и сказала рвущимся голосом:
— Я знаю, Роман, что вы сами никогда не скажете мне этого… Того, что вы хотите, и что вам нужно сказать, и чего вы боитесь. Но сегодня последний день. Зачем же нам мучить друг друга, зачем красть у себя радость? Я сама скажу вам, — я люблю вас, Роман, и знаю вашу любовь.
Была в этот миг в комнате смутная тишина, булькал водой чайник и стояли двое лицом к лицу, глаза в глаза, потрясенные и оглушенные.
И когда курсант, опешивший, подхватил ее обезволенную, склонившуюся к нему, как подсеченная смоляная ель, и потянулся неловко к губам девушки, они улыбнулись ему бессильной нежной улыбкой.
И в ночи, в гулком хлопе бившегося на крыше железа, в капельном звоне дождя в стекла, в холодном сумраке советской комнаты, жглись углями встречавшиеся губы, пламенели касания рук, спутывались на прорванной подушке волосы, и комната казалась многоколонной, чудесной, светящейся и поющей.
В эту ночь кровь двоих — дочери полковничьей, большевички партийной Анны Белоклинской и слесаря подручного от Лесснера, Романа Руды, — стала одной кровью. И даже самим им не различить было, чьего сердца удары тревожат тишь. Связались две души кровным узлом, одной тревогой, одной любовью. И из крови, из трепета затеплилась новая жизнь.
Все проходит безвозвратным дымом — вечны в смене своей только ненависть, любовь, жизнь.
IX
Эскадроны стояли в конном строю на плацу, покрытом голубыми яркими лужами, и в них беззаботно бултыхалось, отряхиваясь, молодое весеннее солнце.
Широкий лохматый ветер трепал георгиевские ленты штандарта, рвал бирюзовые зеркала луж мелкой рябью.
Лошади стояли, буйно грызя мундштуки, роя землю копытами.
Они чуяли весеннее радостное томление. Жеребцы поворачивали выгнутые шеи к ветру косились покрасневшими глазами и, когда с порывами долетал до их нюха волнующий запах подруг, ржали пронзительно и весело, тряся головой.
Священник кончал молебен, провозглашая многолетие державе Российской и победоносному воинству ее. От взмахов кадила плыли по ветру синие струйки, и рыжий гунтер, нетерпеливо вздрагивавший под генералом, сердито чихал, вдыхая непривычный и ненужный запах.
Хор отгремел многолетие.
Генерал неторопливо слез с коня и неловкой развальцей подошел приложиться к распятию.
Вытерев платком лоб, смоченный святой водой, он вернулся обратно и с неожиданной для его тяжелого, плотно загрузившего английские бриджи и открытый френч с отложным белым воротником тела легкостью взлетел в седло.
Оглядел строй эскадронов и швырнул кругло и громко:
— На-кройсь!
С легким шуршанием поднялись сотни фуражек и опустились на головы.
— Стоять вольно! Можно курить! Через пять минут прибудет его превосходительство.
Кони обрадованно замотали головами, заржали веселее, зачиркали спички, понеслись крутящиеся папиросные дымки, зажурчал говор.
Командиры съехались к генералу. Высокий, с длинным шрамом через правую щеку полковник, перегнувшись с седла, рассказывал генералу что-то веселое, и генерал снисходительно скалил сахарные зубы под пушистыми усами. Блестели на солнце погоны, ордена, начищенные медные части сбруи, вертелись и брызгали грязью расшалившиеся лошади, и от всей группы несло довольством и уверенностью сытых, выхоленных, привычных к своему делу людей.
Генерал бросил окурок сигары и, повернувшись на медный призыв трубы, затянул поводья прыгнувшего гунтера и скомандовал:
— Становись!.. Смирно!.. Господа офицеры!
Офицеры поскакали на места. Строй шатнулся и застыл.
Из-за поворота плаца показались конские головы. Генерал привстал на стременах.
— Равнение направо!.. Смирно!.. На-краул, шашки вон!
Одной серебряной струей пролился по рядам блеск взлетевших лезвий. Генерал пришпорил коня и легко поскакал навстречу конной группе. Там он остановил на полпрыжке скакуна, отсалютовал, подал строевой рапорт и, повернув, поехал шагом за лошадью командующего.
Сотни глаз поворачивались за мешковатой, неловко сидевшей в седле фигурой, пока командующий проезжал на середину фронта. Он был грузен и неуклюж, сидел на лошади по-пехотному, расставив носки и оттопырив локти. На тучном лице в коричневых подглазных отеках утопали маленькие, сердитые и сонные глаза, буро-малиновые щеки свисали обезьяньими мешками, разделенные черной бородкой.
Скрипучим голосом, лениво и вяло он сказал:
— Здравствуйте, юнкера! — и недовольно поморщился в ответ на треснувшее «здравия желаем»… Пожевал губами и заговорил.
Говорил он о славе, о величии, о дедовских победах, о славных заветах русской армии, о георгиевских знаменах, боевых подвигах, о спасении попранной родины, самоотвержении, но слова были тусклыми, бескрылыми и шлепались в лужу под ногами вороного коня, падали оловянной тяжестью.
И когда поздравил юнкеров с высокой честью нанести последний удар противнику собравшему остатние силы свои и потеснившему доблестные добровольческие части, — «ура» юнкеров было жидким и неуверенным.
Генерал нахмурился и бросил последние слова;
— Вы уходите на фронт, не окончив курса, простыми юнкерами. Может быть, это покажется вам обидным, но мы не хотим разрывать связывающих вас уз дружбы и посылаем вас отдельным сводным юнкерским полком. В первых боях своими подвигами вы зарабатываете офицерские потны на поле славы и чести.
Командующий повернул коня и уехал со скучающим и хмурым лицом.
Когда эскадроны уходили с плаца под танцующий звон кавалерийского марша, в четвертом ряду первого эскадрона рыжеватый юнкер сказал соседу:
— Ну и нудная же сволочь, царь Антон! Будто не говорит, а кишку изо рта тянет. Завыть хочется.
— Пономарь, сукин сын!.. По покойникам замечательно читал бы, — ответил, оправляя поводья, Всеволод Белоклинский.
X
Троцкий кушал мацу с шампиньонами,
Петерс грабил Москву с компаньонами…
Эх, яблочко, да куды котишься,
К юнкерам попадешь — не воротишься…
Худенький юнкер в очках немилосердно рвал клавиши расстроенного рояля.
Десяток сгрудившихся вокруг подпевали разбродными голосами.
Сквозь опаловую мглу продымленного воздуха сочились розовым сиянием электрические нити лампочек.
В углу грудой валялись брошенные шашки и фуражки.
Большой стол, протянувшийся от угла к углу по диагонали ресторанного кабинета, пестрел винными лужами и пятнами соусов. Бутылки лежали и стояли островами на смятой скатерти.
Рояль брякнул громом на весь кабинет, и за взрывом хохота запели второй куплет:
Комиссар нас разбить все бахвалился,
Еле ноги унес, опечалился.
Эх, яблочко, — все катается,
А жидовская рать разбегается.
Полуголые, блеклые женщины испуганно жались по диванам, между юнкерами. На лицах их, сквозь мозаику пудры и румян, проступала равнодушная усталость и давнишний, навеки, испуг. И только губы раздвигались привычной, заученной улыбкой.
Когда допели «яблочко», юнкер в очках брызнул лезгинкой.
— Цихадзе… Цихадзе! Лезгинку! Жарь во весь дух.