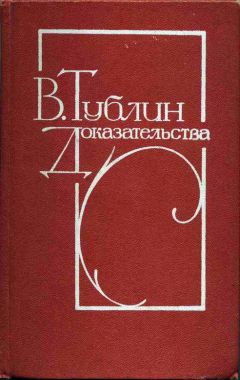Валентин Тублин - Доказательства: Повести
И тут же звук — жалкий, словно лопнула где-то струна, долетел до него.
Все было кончено. Не стоило открывать глаза. Не стоило даже брать бинокль, чтоб посмотреть на такой выстрел, но он, чисто механически, сделал это — снял бинокль с пояса и посмотрел: стрела его была в щите. Она воткнулась в щит так, как она и летела, — боком, жалко, и теперь понуро висела у самого края мишени. Руки у него тряслись, бинокль прыгал, и некоторое время он не мог даже понять, задел он хотя бы единицу или нет, и ему пришлось опереть бинокль о лук. И тогда он увидел, задел.
Единица!
Не десятка и не девятка, и даже не шестерка на худой конец — единица, одно несчастное очко, но он обрадовался так, словно попал в самый центр десятки. Единица — это все-таки был не ноль, это было попадание, это было очко, но ведь очко, не промах, нет, не промах…
Нет, его так просто не возьмешь. «Спокойно, — сказал он себе, — спокойно». Вторая стрела; рука вынула ее из колчана, стрела легла на тетиву, и хвостовик щелкнул; он делал это сотни раз, он делал это тысячи раз, он не был звездой первой величины, но и последним он тоже не был. «Так, — сказал он себе, — ну, давай». Веселая злость пузырьками поднималась у него в груди. «Значит, единица», — сказал он себе, и левая рука его мертво стала в центре.
«Единица». И пальцы мягко легли на тетиву.
«Единица». И лопатка пошла назад. «Контроль», — сказал он себе, но больше уже по привычке, злость кипела и поднималась; контроль, проверка — но все было в порядке, левое плечо было на месте, кисть лежала в рукоятке, словно младенец в колыбели, кончик носа чуть касался тетивы, а прицел все стоял в центре; так рыба стоит над камнем, живая и неживая в одно и то же время, и двигаясь, и стоя на месте; все было в порядке, и он дотянул еще чуть-чуть. Тут щелкнул кликер, — тяга шла, пальцы раскрылись сами собой, движение было мягким и неуловимым для глаза, правая кисть свободно ушла назад, прицел все еще стоял в центре, а стрела исчезла, она рванулась и исчезла из поля зрения, раньше чем он успел бы моргнуть. Только он ведь и не моргал, моргать ему было вовсе незачем, как незачем было ему глядеть, куда летит его стрела и куда она попадет, ибо в тот самый момент, когда он выстрелил, в тот момент, когда разжались пальцы и соскользнула тетива, — он почувствовал и понял, он был совершенно уверен, что эта стрела будет «там», в середине, в самом центре, и так оно и случилось, — так что когда издалека донеслось до него столь сладостное — «тук-к-к», ему на этот раз не пришлось ни пересиливать себя, ни тратить время на то, чтобы смотреть в бинокль. Нет, здесь он времени терять не стал, веселые и злые пузырьки все еще поднимались в нем, это было восхитительное чувство, и пока оно не прошло, не стоило терять ни секунды. И он просто повторил все, как автомат: левая рука, правая рука, прицел, проверка, тяга, лопатка, щелчок и выпуск. И снова издали донеслось до него — «тук-к-к»… Он только зубы сжал, повернулся и пошел с линии стрельбы на свою скамейку. И только тут, теперь только он по-настоящему испугался, вот тут-то на него накатил настоящий страх, как если бы он выскочил удачно прямо из-под колес машины и пошел бы себе как ни в чем не бывало и, может быть, даже посвистывая, а потом остановился бы, и ноги подкосились, и пот побежал по груди и по спине; стоял бы весь мокрый и думал бы: «Да, пронесло. Но могло-то быть и иначе».
Точно так и здесь — все могло быть иначе, и Сычев не дошел еще до скамейки, а уж колени у него подогнулись. И все-таки он уже выскочил, а вот Зайдниексу, который шел ему навстречу, все еще предстояло. Зайдниекс шел ему навстречу, улыбаясь белыми от волнения губами; он стрелял по тому же, что и Сычев, щиту, он был «литер В». Он был парень что надо, Аугустинус Зайдниекс из Даугавпилса, он был слесарь-ремонтник, он всегда владел своими нервами, он и сейчас владел ими, когда попробовал улыбнуться Сычеву. Сычев же только и мог что моргнуть в ответ.
На скамейке сидел веселый, как всегда, Шарафутдин Ташибеков и смотрел в подзорную трубу.
— Ну, — осипшим голосом спросил его Сычев, — Ну, Шурик?
Шарафутдин открыл зажмуренный глаз и посмотрел на Сычева. Глаза его были темно-карие, твердые и веселые. Смотреть на него и то было приятно. Это были глаза веселого и доброго человека, добрым и веселым человеком был Шарафутдин Ташибеков, он был мастером международного класса, Шарафутдин Ташибеков, он был учителем средней школы; наверное, там, в горах, где он был учителем, иным и нельзя быть, и Сычев подумал вдруг, что хорошо, должно быть, ребятам иметь такого учителя, как Шурик. От сердца у него отлегло, и он улыбнулся. Он улыбнулся Шарафутди- ну, как улыбнулся бы любимому брату, и Шарафутдин, Шурик, улыбнулся ему в ответ, и тут Сычев подумал снова, что будь у него такие зубы, он вообще не смыкал бы губ, улыбался бы без остановки с семи утра до двенадцати ночи, и даже перерыва на обед не стал бы просить.
— Ну, — сказал Сычев, улыбаясь, — ну, Шурик?
— Очко, — сказал Шарафутдин. — Хорошо, а? — Ему, похоже, очень хотелось засмеяться, он даже словно подпрыгивал от нетерпения, так его распирала радость — ведь жизнь была так хороша; и, глядя на Шарафутдина, нельзя было не признать правильности этого несколько общего положения. И Сычев согласился и сказал:
— Да, Шурик, вроде и в самом деле неплохо.
— Неплохо? — сказал Шарафутдин. — Нет, это просто хорошо, а?
И они рассмеялись, и тут Сычев окончательно пришел в себя. Шурик был прав, конечно. Это было хорошо, это было замечательно, замечательно было, что он попал оба раза в десятку, злые пузырьки у него в груди исчезли, злости не было, а была уверенность и теплота. «Все хорошо, — говорил он себе, — все хорошо».
Он хотел было сказать об этом Шарафутдину, но тот уже исчез, унесся, убежал, и Сычеву ничего не оставалось, как вытащить из колчана записную книжку и карандаш и твердым вертикальным почерком вывести: «Первая серия. 1 + 10+10 = 21».
Ну, так вот оно и началось. Сначала ты делаешь то, что должен сделать, потом уходишь, потом возвращаешься и делаешь это дело снова. И еще раз. И еще… уходишь и возвращаешься, но разве это в первый раз? Разве не это мы делаем всю свою жизнь? Между солнцем и зеленой травой, под голубым небом, сверкая, проносятся стрелы, ты уходишь и возвращаешься и снова уходишь, и солнце освещает тебя, а может быть, через минуту польет дождь — разве в этом дело? Ты — часть большого мира, ты делаешь свое дело, земля вращается, где-то ночь, в земле лежит зерно, где-то холод, где-то зной, варится сталь, добывается уголь, добывается нефть, мудрец сидит согнувшись над листком бумаги, спит женщина, вернувшаяся с ночной смены, где-то родился ребенок, кто он — будущий Сократ, Заратустра или новый доктор Менгеле; летят стрелы, жизнь идет своим чередом, жизнь вечна, но неизменным в ней остается только одно — ее изменчивость.
А ты стоишь на линии, ты литер «А» или литер «В», ты инженер, учитель, портной, архитектор, милиционер, слесарь или летчик, ты живешь в Англии, ты живешь в Сиднее, Ленинграде, Копенгагене, Москве, Антверпене, в горном кишлаке.
Ты держишь в руках «хойт», или «марксман», или «голдн игл», или «грин хорн», или «блэк видоу».
Ты идешь к щиту по зеленому полю, по упругой траве, над тобою ветер развернул флаги, транспаранты рвутся вдаль, «привет участникам международной встречи», ты идешь к щиту, чтобы выдернуть стрелы.
А потом ты снова идешь, чтобы через несколько минут начать все сначала, и думаешь о мире, таком большом и таком непохожем.
Ты думаешь о том мире, что меняется каждую секунду, о потоке, в который нельзя войти дважды, и о том, что ты сам — это капля в безграничном океане. Можно было бы предположить, что капля никому не интересна, что ею можно пренебречь. А потом ты вспоминаешь, что без капли нет ручья, без ручья нет реки и нет океана. И ты начинаешь думать о своем мире, в котором ты живешь сейчас, когда ходишь по зеленой, уже успевшей высохнуть траве. Но ведь не всегда ты живешь в этом мире, мире стрел и флагов, есть еще другой, на время оставленный тобою мир, и вот о нем-то неожиданно для себя и вспомнил Сычев, вспомнил и забыл, и снова вспомнил, и стал думать о нем, вспоминать о нем, и уже не забывал, не забывал о том мире, из которого он уехал три дня назад; мир был тогда другим, он, Сычев, был тогда другим, и другой была вода в потоке.
2
Поток существовал всегда, всегда существовал мир, солнце над головой, ветер и звезды и тропа у ручья, витязь ехал по тропе темным лесом, чистым полем, зеленая трава и синее небо, лук за спиной, в руке копье, витязь ехал по белу свету и доезжал до развилки, тут он замечал, что дорога разделяется, направо пойдешь — коня потеряешь, конь пятился, колебалось в руке копье, пасмурно становилось на душе, налево пойдешь — домой не придешь, белели обглоданные ветром кости и ворон мерзко хохотал в вышине. Проходили минуты и часы, надо было выбирать, проблема выбора возникала рано или поздно перед каждым, и каждый рано или поздно делал свой выбор.