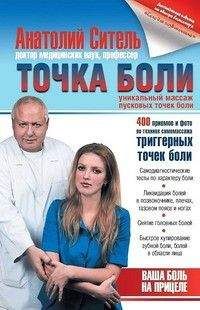Анатолий Загорный - Легенда о ретивом сердце
Илья с Добрыней взобрались по лестнице на заборолы крепости и стали глядеть в темноту, туда, откуда должны были прийти печенеги. Постояли, обвеваемые ветром, и присели на помост, прислушиваясь к великому гулу, каким гудел недобро разбуженный в эту ночь город. Привалила запоздавшая ватага звероловов. Последний подолец кричал, чтоб повременили запирать ворота. Потом ворота закрылись. Лязгнул засов — шестипудовая железная палица, зазвенели ключи. Город приутих. Стали ждать, и ожидание было долгим, томительным.
Дождь не пошел, но тучи сгустились, небо стало совсем медным.
Илейка немного задремал. Его разбудил истошный крик петуха. Открыл глаза. В сером сумраке увидел беспорядочный лагерь, в который превратилась крепость, — тысячи людей спали на земле, подложив под головы жалкий скарб, дети свернулись калачиками. Сотни людей бродили по крепости, что-то делали — несли бревна, лестницы, собирали камни. Отдельными группами стояли дружинники, опершись на короткие копья — сулицы, беседовали.
— Очнулся? — крикнул Добрыня со стены. — Поднимайся сюда…
Илейка поднялся на крепость. Он никак не ожидал увидеть печенегов. А они уже стояли под стенами на Подоле — огромный, до самого Днепра табор. Словно из- под земли выросли, ничего-то но слыхал Илья. Дымили костры на широких подольских улицах, будто в степи. Воины в кожаных штанах и коротких куртках, в черных колпаках, с ногами, перетянутыми ремнями, сновали кругом на приземистых изжелта-золотистых лошадях.
Стояли кругом повозки, кибитки, войлочные небольшие палатки, странно смотревшие рядом с добротными, рубленными из бревен избами. На Боричевом взвозе, ближе к Днепру, светил белым пятном шатер хакана. Вся дорога и площадь перед Кузнецкими воротами были запружены печенегами — конными и пешими. Крепким запахом пота несло на стены.
— Загадят Подол, год навоз вывозить надо, — сказал Добрыня Никитич.
Он размахнулся и швырнул свое копье. Со свистом, рассекая воздух, копье стало падать в самую гущу врагов. Всадники бросились от него во все стороны, и один, пронзенный навылет, повалился с лошади. Как переполошился табор! Всколыхнулась конница, рассыпалась, стрелы понеслись на стены. Группа всадников близко подъехала к Кузнецким воротам и, выкрикивая ругательства, требовала, чтобы руссы впустили их. На арабском стройном скакуне, подбоченившись, гарцевал воин в дорогих доспехах — приземистый, раскосый, брови, как у филина — дугой. Он кричал что-то, и толмач, коверкая слова, переводил:
— Сартак-богатырь говорит, чтобы ваша открыли ему двери! — доносился голос. — Передохнете все, как мыши в гололедицу, будете глину есть. Не уйдем, пока не пустите нас… гулять будем… А то заморим… И девок ваших возьмем рабынями, на Восток продадим, а вас порежем, как баранов… Открывай двери, русс! Не то князя в котел будем бросать, а княгиню Сартак возьмет к себе на подушки. А Куяву вашу на дым спустим…
На стене появился Васька, по прозвищу «Долгополый», известный в Киеве забияка и пьяница. Рыжий, опухший, он приложил к уху волосатую пятерню:
— Что ты там брешешь, навозник? Громче!
— Говорю тебе, красная башка, отворяй дверки! Калин-хакан пришел — непобедимый батур! Отворяй ворота, шафран-башка!
— Какие ворота? — удивился Васька. — В портках?
На стенах дружно захохотали, а Сартак быстро выпустил стрелу, которая сбила с головы Васьки шапку.
— Ах ты, бурдюк печенежский! Пес вислоухий! — возмутился тот, выхватил из рук стоящего рядом горожанина сулицу, с силой бросил и попал в шелом Сартака. Копье скользнуло по лицу, и кровь залила доспехи батура. Схватившись обеими руками за отсеченное ухо, он поскакал к своей кибитке, только пыль заклубилась на дороге. Печенеги стали редкою цепью и осыпали стены градом стрел. Киевляне повалились с заборол, кто пронзенный, кто раненый.
— Провались ты, Долгополый! Или нечистый тебя каленым гвоздем в задницу тычет, — кричали они. — Какую беду накликал! Вот мы тебе, гуляке, ребра поломаем! Зачем дразнишь поганых?
— Чего разорались? Какого хромого козла? — огрызнулся со стены Васька, сбивая шапкой потерявшую силу стрелу. — Видали, как я его смазапул?
Илейка встал рядом с Добрынею. Натянули луки и стали выпускать стрелу за стрелой…
…Потянулись скучные дни осады. Печенеги не предприняли ни одного приступа. Грозно глядела крепость каменной стеной, крепкие дубовые частоколы стояли па обрывистых киевских кручах. Решили взять город измором. Ни один человек не мог ни выйти, ни войти. Запасы продовольствия быстро истощались — почти весь скот остался за стенами Кияни — добычею врага. Да и воды не хватало, выхлебали все колодцы, нельзя было пробраться ни на Почайну, ни на Киянку. Каждый день вспыхивали на Подоле пожары, рушились постройки — печенеги жгли дерево на кострах. Печально смотрели вырубленные сады, вытоптанные огороды; бездомные голуби разлетелись по окрестным лесам. Ходили слухи, что степняки отобрали всех младенцев у полоненных матерей и спустили их по Днепру в корзинках.
В эти суровые дни великий князь Владимир Святославович собрал совет именитых, на котором было решено отправить к Калин-хакалу посольство. Послом был назначен Михайло Потык, сопровождающими — Добрыня и Муромец. Все трое были в немилости у князя. Редко когда послы возвращались от печенегов… Все знали это, знали и сами послы. На площади собрались толпы — князь всенародно объявил о решении именитых. Он сказал, что его послы договорятся с хаканом о мире, дадут ему выкуп, ибо Киев — брат Константинополя, самого богатого города на свете. Затем князь вручил Михайло грамоту, предназначенную для Калин-хакапа. Послов усадили на коней из княжеской конюшни, и они медленно двинулись к Кузнецким воротам. Стража открыла ворота и тотчас же захлопнула их.
Трое всадников оказались отрезанными от города, потоптались на месте, прощально помахав руками тем, кто был на стенах. Шагом направились к печенежскому стану. Михайло Потык поднял руку с белым, зажатым в кулаке платком — он увидел, как несколько всадников, опустив копья, скачут к ним. У Плойки впервые екнуло сердце. При нем не было копья, и обнажать меч он не имел права. Это было тяжелое чувство — видеть перед собою врагов и ничего но предпринимать, сидеть в седле истуканом. Рука легла на крыж самосека. Со свистом и гиканьем налетели отовсюду печенеги — человек двадцать. Скуластые узкоглазые лица, лоснящиеся от жира, короткие кожаные куртки и башлыки из верблюжьей шерсти. Ударил в нос резкий козлиный запах… Печенеги оттеснили Потыка, разбили Илейку с Добрынею. Вырвали из рук Михайлы платок, бросили на землю. Не успел Илейка опомниться, как несколько цепких рук стащили его с седла. Один только Добрыня отбивался еще, не обнажая меча. Но вот и его повалили. Несколько человек поставили на грудь Илейки ноги, придавили. Суетились, кричали и рвали, кто что успевал захватить, — один меч, другой пояс, третий шарил за пазухой. Спорили, кому достанется конь, кому седло, а кому уздечка. Наконец обезоруженных, вывалянных в пыли послов подняли и связали им руки тетивами. Набросили на шеи по волосяному аркану и, окружив плотным кольцом, повели.
На Самвате видели это. Там стояли, сцепив руки. Горожане что-то кричали, но оглушенный Илья не слышал их, он только сплевывал набившуюся в рот пыль. Добрыня чихал и ругался. Повели по Боричеву. С каждой минутой все гуще и гуще становилась толпа, все теснее жались кибитки, откуда выглядывали женщины с бритыми головами, желтыми, как дыни. Они показывали пленных своим детям и говорили, что это руссы — их смертельные враги и что теперь их посадят на кол. Каждый норовил ткнуть тупым концом копья в бок русса. Илейку больно ударили по лицу комом грязи, размазали пятерней. Аркан рванули и поволокли Муромца по земле.
— Слышь меня, Муромец? Илья! — донесся голос Добрыни.
Илье хотелось крикнуть, что здесь он, что жив еще, что с честыо примет он смерть, но горло стягивала волосяная петля. Потом его грубо подняли за ворот и потащили дальше. Кто-то шел сзади и бил по подколенкам так, что Илейка то и дело падал, вызывая общий хохот. Долго шел так, пинаемый со всех сторон, оглушенный гортанными криками, избитый палкой, какой подгоняют верблюдов. Свора собак, облизывавших выставленные после еды котлы, злобно рычала.
— Хакан Калин! Калин! — загалдели кругом, и Илейка открыл глаза.
Первое, что он увидел, были красные, унизанные жемчужными узорами сапоги с загнутыми носками. Перед ним стоял сам хакан Калин. Это был высокого роста смуглый печенег с красивым разрезом глаз, сверкавших из-под персидского золоченого шелома. Рукава его зеленого, расшитого драконами халата были подсучены и обнажали крепкие мускулистые руки. С плеч свисала тигровая шкура. За кушаком было заткнуто несколько больших кинжалов с кривыми лезвиями, без ножей. Ему протянули свиток пергамена, он вырвал его из рук, развернул. Толмач стал сзади и тотчас же перевел. Лицо Калина передернулось подобием улыбки, он что-то быстро сказал.