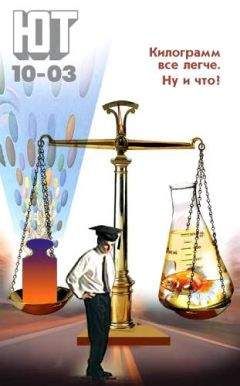Александр Слонимский - Черниговцы (повесть о восстании Черниговского полка 1826)
Не знал этого и сам Николай. Александр только на словах предупредил его, что он будет его преемником и должен готовиться к императорскому трону. Николай скромно отказывался, ссылаясь на свои слабые способности, но внутренне обрадовался несказанно, почти до восторга. Повинуясь приказу старшего брата, которого он называл «благодетелем», он усердно принялся «готовиться к императорскому трону», то есть муштровать порученную ему гвардейскую бригаду и наводить порядок, нарушенный, как ему казалось, трехгодичной войной: дисциплина расшаталась, подчиненность исчезла, офицеры запросто, по-дружески обходятся с начальниками и — о ужас! — появляются в обществе во фраках. Он стал истреблять этот вольный дух: в офицерах — грубыми ругательствами, в солдатах — палками и шпицрутенами. Нравится ли это его подчиненным или нет, об этом он не заботился. Офицеры и солдаты одинаково были для него людьми-куколками: одни понаряднее, другие попроще — вот и вся разница. Ему и в голову не приходило, что эти люди-куколки могут иметь свои мысли, чувства и настроения. Он судил так о других потому, что и сам — высокий, прямой, со стальными глазами навыкате, затянутый с утра в парадный мундир — был не что иное, как бездушная кукла.
При первых же тревожных известиях из Таганрога Николай призвал к себе военного генерал-губернатора графа Милорадовича, в ведении которого находилась вся гвардия — пехота, кавалерия и артиллерия. Но едва он заговорил об отречении Константина и о воле Александра, по которой корона переходит к нему, как Милорадович возразил твердо и решительно:
— Умерший император воли не имеет. Корона переходит к законному наследнику, цесаревичу Константину. Я знаю настроение гвардии. Присяга в обход законного наследника невозможна.
Командуя всей гвардией, Милорадович чувствовал себя хозяином положения.
— У кого, милый мой, шестьдесят тысяч штыков в кармане, шутил он потом, приятельски беседуя с капитаном Якубовичем, — тот может говорить смело.
Якубович был кавказский офицер, прославившийся в битвах с горцами. Милорадович уважал его за храбрость, доказанную раной в лоб, и за пылкое красноречие, в котором выказывалась его бурная, пламенная натура. Он и не подозревал, что Якубович принадлежит к тайному обществу.
Между тем положение все более запутывалось. Константин и не ехал и не заявлял о своем отречении манифестом публично. Он писал, чтобы оставили его в покое, что он знать ничего не хочет. Всех, кто обращался к нему как к императору, он грубо обрывал, но вместе с тем и не провозглашал императором Николая. Он как будто потешался тем затруднительным положением, в какое поставил брата, которого всегда считал пустым мальчишкой. Одному сенатору, страстному игроку в штосс, присланному из Петербурга с докладами сената и государственного совета, он сказал: «Зачем вы приехали? Я давно уже в штосс не играю». И повернул ему спину.
Николаю становилось жутко: он слышал кругом какие-то шепоты, видел недоверчивые, иронические взгляды. Люди-куколки ожили, зашевелились — того и гляди, заговорят. Медлить больше нельзя было: надо было сделать решительный шаг и самому объявить о своем восшествии на престол. Но как примет гвардия вторую присягу?
Все, что творилось во дворце, немедленно становилось известным тайному обществу через князя Оболенского, который был старшим адъютантом генерала Бистрома, командира гвардейской пехоты, и ежедневно бывал во дворце. Там, в конногвардейской комнате, в шуме разговоров он подхватывал новости, которые тотчас сообщал Рылееву. Чего не удавалось узнать Оболенскому, то выведывал Якубович у графа Мило-радовича, у которого, как говорили, не было обыкновения держать язык за зубами.
По предложению Рылеева, Трубецкой был избран диктатором. Он должен был идти во главе восставших.
— Я служил в штабе, а не в строю, — сказал Трубецкой, когда Рылеев приехал к нему, чтобы сообщить о его избрании. — Не знаю, годен ли я для роли военачальника.
— Нам нужно имя, князь, которое ободрило бы, — ответил Рылеев. — Заменить вас некому: с маленькими эполетами никто не может взять на себя главное распоряжение.
В четверг, 10 декабря, Трубецкой явился к Рылееву, который только что оправился после болезни. Он простудился, обходя ночью казармы с Александром и Михаилом Бестужевыми, для того чтобы узнать настроение солдат и подготовить их к выступлению.
— Дело идет к развязке, — сказал Трубецкой, входя в кабинет, — через два-три дня будет объявлена присяга Николаю.
Рылеев в радостном возбуждении зашагал по комнате.
— Это дает нам надежду на совершенный успех, — говорил он. — Солдаты знают, что у нас император Константин, и не поверят его отречению после двухнедельного царствования. Мы пустим слух, что Константин задержан на пути в Петербург и сидит в крепости в Динабурге. А причину выставим ту, что он хотел объявить вольность и убавить солдатскую службу. Схватившись за этот рычаг, мы подымем гвардию. Надобно только нанести первый удар, а там обстоятельства покажут, что делать. Нас поддержит народ!
— Вы полагаете, что народ поймет наши цели? — с сомнением спросил Трубецкой.
— Не разумом, а чувством, страданием своим поймет! — убежденно воскликнул Рылеев. — Он встанет весь, как встал в двенадцатом году. Мы доделаем то, чему начало положено на бородинских полях… — Лицо Рылеева горело, глаза блестели. Глядя куда-то вдаль, он продолжал вдохновенно: — Мы завоюем счастье России и счастье всех детей ее — исторгнем наконец железный скипетр из рук самовластья!
Что-то знакомое послышалось Трубецкому в словах Рылеева. Он вспомнил Сергея Муравьева. Но там чувство скрывалось под внешним спокойствием, а здесь выливалось потоком, как лава, не умеряемое рассудком.
— Вы поэт, Кондратий Федорович, — сказал Трубецкой, ласково смотря в его по-детски ясные, сияющие глаза. — Вами владеет восторг…
— Без восторга, князь, ничего не делается на свете великого! — перебил его Рылеев.
С этого дня квартира Рылеева превратилась как бы в главный штаб. Трубецкой, в качестве полновластного начальника, принимал сведения о положении дел в полках и давал распоряжения. С утра до вечера приходили и уходили люди. Слуга едва поспевал отворять и затворять двери. Прихожая была завалена военными шинелями.
Трубецкой и Рылеев, как члены Верховной думы, обсуждали план действий. В этих совещаниях принимал участие и Оболенскин. Трубецкой считал необходимым соблюсти вид законности, чтобы избежать беспорядков в городе. Собрав поиска, надо было, по его мнению, удержать их под ружьем и потребовать от сената указ о созыве депутатов для установления нового образа правления. Он высказывал уверенность, что солдаты не станут стрелять друг в друга. Рылеев и Оболенский находили такое бездействие опасным. Они настаивали на том, чтобы силон захватить власть, арестовать или, в крайнем случае, даже убить Николая и назначить временное правительство, которое провозгласит республику и освобождение крестьян.
Но главная задача сейчас была в том, чтобы выяснить, какие полки выйдут на Сенатскую площадь, которая назначена была сборным пунктом. Рылеев и Оболенский говорили, что, по собранным сведениям, откажутся от присяги полки Измайловский, Финляндский, егерский, гренадерский, Московский и гвардейский экипаж.
— Больше всего я надеюсь на моряков гвардейского экипажа, — сказал Рылеев. — Там Николай Бестужев. В Московском полку двое: Михаил Бестужев и князь Щепин-Ростовский. Этот не принадлежит к обществу, но человек горячий, даже до излишества. Его наэлектризовал Михаил и привел ко мне: так и бьет руками и ногами! — Рылеев улыбнулся, а затем продолжал: — В гренадерском полку Панов и Сутгоф. Они обещают увлечь и другие роты.
— Для начатия действия довольно одного полка, — решительно заявил Трубецкой. — Надо вывести из казарм хоть одну воинскую часть и идти к другим, увлекая их за собой.
Он разложил на столе карту Петербурга и крестиками отмечал расположение полков.
— Гвардейский экипаж идет к Измайловскому полку, — говорил он, водя карандашом по карте, — а затем увлекает Московский полк и по Гороховой идет к Сенату. Гренадерский с Петербургской стороны и Финляндский с Васильевского острова прямо направляются на площадь.
Трубецкой поднялся, прощаясь.
— Мы здесь начнем — Южное общество закончит, сказал он. — Мы накануне великих событий.
Присяга назначена была на понедельник, 14 декабря, в девять утра, во всех гвардейских полках одновременно. Накануне, в воскресенье вечером, у Рылеева было людно и шумно. В гостиной и в кабинете ходили, курили, говорили. Все были в каком-то лихорадочно-возбужденном состоянии и громкими речами, казалось, хотели заглушить внутреннюю тревогу. Первоначальные надежды не оправдывались. Никто не мог поручиться за свою часть. Многие командиры только недавно приняли свои роты и не успели сблизиться с солдатами. Другие стояли со своими ротами за городом. На Финляндский полк надежда была потеряна вследствие измены командира второго батальона полковника Моллера, бывшего члена общества, который заявил, что не желает быть ни в чьих руках игрушкой, когда, как он выразился, «голова плохо держится на плечах». Нельзя было рассчитывать и на Измайловский полк, где старшие офицеры, члены общества, находились в отсутствии. Только Михаил Бестужев обещал привести если не весь Московский полк, то несколько рот, поручики Панов и Сутгоф отвечали за своих гренадер, да Николай Бестужев и лейтенант Арбузов ручались за моряков гвардейского экипажа.