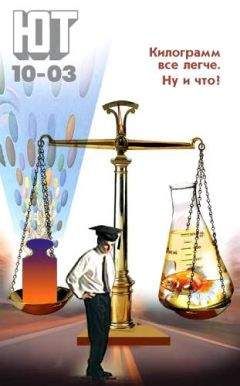Александр Слонимский - Черниговцы (повесть о восстании Черниговского полка 1826)
Вечером, после репетиции смотра, у Сергея было назначено совместное совещание славян с членами Южного общества. Земляной пол балагана был устлан циновками. Горело множество свечей в шандалах. У походной кровати Сергея на ящике, покрытом белой скатертью, стояло зеркало, перед которым лежали туалетные принадлежности: головная щеточка, гребешки, мыло, бритвенный прибор. Тут же была склянка духов. В балагане было светло и уютно.
Южане были все в сборе, когда явились славяне. На походном стуле, расставив толстые ноги в напруженных гусарских чикчирах[45] с шитьем, сидел Артамон Захарович Муравьев, родственник Сергея. Он курил трубку, и на его полном лице с одутловатыми щеками и маленькими глазами было торжественное выражение. Высокий Тизенгаузен, командир Полтавского полка, стоял в невозмутимой позе, заложив пальцы за борт аккуратно застегнутого сюртука. Маленький Пыхачев, командир пятой артиллерийской конной роты, нервно ходил из угла в угол и взмахивал рукой, как бы говоря сам с собой.
Среди южан большинство были полковые и батальонные командиры, люди с известными дворянскими фамилиями. Славяне сначала чувствовали себя неловко. Андреевич то и дело приглаживал широкой ладонью встававшие на голове вихры. Кузьмин, насупившись, косился на туалетный ящик с зеркалом и духами.
Сергей знакомил славян со своими сочленами и дружескими разговорами старался сгладить разницу лет и положений. Наконец он предложил приступить к совещанию. Артамон Муравьев тотчас приосанился и, выбив пепел из трубки, поставил ее в угол. Первый произнес речь Бестужев. Он говорил о необходимости полного доверия к Верховной думе и безусловного подчинения ее предписаниям.
— Наша революция, — говорил он, — будет во всем подобна испанской. Ее произведет армия. Будущей весной, когда император приедет сюда на смотр, решится судьба деспотизма. Мы пойдем на Москву, провозглашая республику, которая навсегда утвердит благоденствие народа. День этот недалек. Но условием успеха является соблюдение в армии порядка и дисциплины, иначе она не может послужить для нас послушным орудием. Солдат нужно приготовлять постепенно. Было бы опасно посвящать их в наши сокровенные цели, которые пока еще для них непонятны и чужды. Это вызвало бы среди них смущение и робость. Они должны быть двинуты в последнюю минуту.
Среди славян послышался ропот.
— Что же, по-вашему, солдаты — это стадо баранов и их можно вести, куда угодно начальству? — раздался сердитый голос Горбачевского.
Бестужев вспыхнул.
— Я говорю только о постепенности, — сказал он. — Пусть знают солдаты, что мы хотим облегчить их участь, сократить срок службы, уничтожить палки. Этого пока довольно. А больше они не должны знать ничего.
— Да это дворцовый переворот, а не революция! — крикнул Горбачевский.
— Вы ошибаетесь, — гордо заявил Бестужев. — Это революция, совершаемая для блага народа!
— Народ сам понимает, что благо, что нет! — горячился Горбачевский. — Он не нуждается в няньках.
Встал Борисов.
— Кто и каким образом будет управлять Россией, пока не установится новая власть? — спросил он.
— До тех пор, пока конституция не получит надлежащей силы, — отвечал Бестужев, — власть будет в руках временного правления.
— По вашим словам, — сказал Борисов, — революция будет военная и во главе ее станут одни только начальники, входящие в состав тайного общества. Но какие ограждения вы представите в том, что один из начальников, опираясь на силу штыков, не похитит самовластия?
Вопрос Борисова ошеломил Бестужева. Он побледнел.
— Генерал Риего не похитил самовластия, хотя и опирался на силу штыков! — проговорил он.
— Но именно так поступил генерал Бонапарт, — хладно-кровно возразил Борисов.
Поднялся общий шум. Все заговорили разом — славяне и южане. Полковник Тизенгаузен доказывал, что солдаты пребывают в невежестве. Артамон Муравьев кричал, что он не допустит никакого Бонапарта.
— Это что ж такое? — негодовал Горбачевский. — Весь народ отстраняется от участия. Вы, голубчики, извольте землю пахать, а мы будем для вас уставы да законы сочинять — так, что ли? Так Я вам скажу, что все это барские штуки!
— Вы не знаете русского солдата! — выкрикивал Сухинов.
Выступил Сергей. Голоса стали мало-помалу смолкать.
Сергей говорил искренне, просто, без жестов. Иногда он останавливался, как бы обдумывая свои слова.
— Наши разногласия, — сказал он, — ничтожны перед величием избранной цели. Мы ненавидим и любим одно.
Он призывал оставить раздоры и братски подать друг другу руку, чтобы сразить общего врага.
— Где между нами Наполеоны, мечтающие о похищении прав народных? — закончил он, глядя с улыбкой на Горбачевского. — Кто знает, что нас ждет впереди? Не почесть, не власть, а может быть, смерть от руки палача. Наш путь — не путь честолюбия, а жертвы.
— Братья, друзья! — раздался вдруг восторженный голос Бестужева. Он вскочил с места. — Братья, друзья! — говорил он с волнением. — Ведь нам ничего не нужно для себя. Клянусь вам, я хочу только одного: умереть за свободу!.. — Закрыв руками лицо, он опустился на стул. — Да, умереть, умереть… — бормотал он. — Клянусь умереть…
— Умрем, все умрем! Клянемся! Я тоже клянусь! — заговорили все разом.
Славяне и южане обнимали друг друга и менялись оружием в знак братства. Среди общего шума слышались восклицания:
— Да здравствует республика! Да здравствует народ! Да погибнет различие сословий!
Бестужев, сняв образ с груди, с жаром поцеловал его и торжественно повторил свою клятву. Образ пошел гулять по рукам. Славяне и южане вырывали его друг у друга и вслед за Бестужевым клялись умереть за свободу.
— Нет, милостивые государи! — кричал маленький Пыхачев в исступлении. — Я никому не позволю выстрелить первому за свободу отечества! Эта честь принадлежит пятой артиллерийской конной роте. Я начну… да, я!
Вскочил Артамон Муравьев.
— Я первый положу живот на алтарь отечества! — воскликнул он горячо, и полные щеки его тряслись от волнения. — Я нанесу удар государю!..
Когда все расходились, Сергей удержал Горбачевского, взяв его за руку. Они остались вдвоем. Бестужев уехал вместе с полковником Тизенгаузеном в Полтавский полк.
— Что вы думаете о приготовлении солдат? — спросил Сергей.
Горбачевский изложил свое мнение. Он утверждал, что от солдат ничего не надо скрывать: надо заставить их думать о собственных нуждах и постепенно вводить во все тайны общества, чтобы они боролись не из преданности к начальникам, а за свои собственные мысли и отыскиваемые ими права.
— Едва ли они в состоянии понять выгоды переворота, — задумчиво заметил Сергей. — Республиканское правление, равенство сословий, избрание чиновников — все это пока будет для них загадкою сфинкса.
— На это есть другой язык, — возразил Горбачевский.
Сергей подошел к туалетному столику и вынул из-за зеркала несколько исписанных листков.
— Взгляните, — сказал он, подзывая Горбачевского.
— Что это?
— Это революционный катехизис, составленный мною, — отвечал Сергей, покраснев. — Я думаю, что на солдат сильнее всего можно действовать религией. Я показываю тут, что религия в союзе со свободой.
Горбачевский с усмешкой покачал головой.
— Полно, Сергей Иванович, — сказал он. — Русский солдат не верит указке попов. — И добавил, указывая на лежавшую перед зеркалом головную щеточку: — Это всё такие же вот барские штуки!
Сергей засмеялся.
— Вас смущают эти барские штуки? — произнес он шутливо. — А что ж, не мешает и вам ими воспользоваться.
Он взял щеточку и стал шаловливо водить ею по растрепанным бакенбардам Горбачевского.
Горбачевский прямо смотрел в глаза Сергею.
— Дайте мне эту щеточку, — сказал он вдруг изменившимся голосом.
— Щеточку? — удивился Сергей.
По лицу Сергея прошла какая-то тень. Оба секунду молчали, глядя друг другу в глаза.
— На память, — точно сердясь, проговорил Горбачевский.
— Хорошо, возьмите на память, — серьезно ответил Сергеи.
Горбачевский быстро положил щеточку в боковой карман шинели, которая была у него на плечах, повернулся и вышел.
Сергей остался один. Он долго стоял у зеркала, погруженный в глубокую задумчивость. Потом потушил все свечи, кроме одной, на столе. Одиночество и тишина после многолюдства и шумных речей томили его. Он казался сам себе покинутым и брошенным.
На туалетном ящике лежала переплетенная в сафьян тетрадь. Сергей достал ее и сел за стол. Мысли и чувства складывались в заунывные стихи. Склонившись над тетрадью, он писал по-французски:
Как путник всем чужой, непонятый, унылый,
Пройду я по земле, в мечтанья погружен,
И только над моей открытою могилой
Внезапно мир поймет, кого лишился он.
В воскресенье после обеда к Сергею пришли солдаты из восьмой пехотной дивизии, бывшие семеновцы. Сергей был с ними в постоянных сношениях.