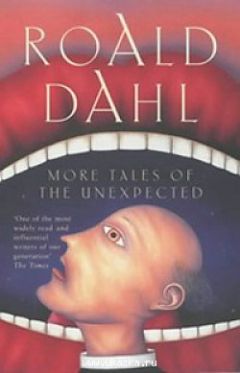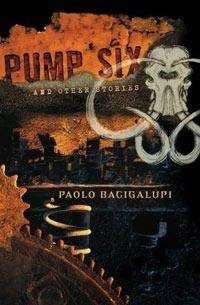Гред Фукс - Мужчина на всю жизнь
Только сейчас он сообщил о случившемся Марион, и оказалось, что по-человечески это вполне можно объяснить: ввиду неблагоприятного положения с заказами фирма предложила ему уйти, но, разумеется, он тут же найдет новую работу. Со временем все уладится, а стало быть, беспокоиться нечего. Он ни словом не обмолвился о том, почему до сих пор молчал. Сидел напротив нее, а она смотрела на него широко раскрытыми глазами, не в состоянии хоть как-то отреагировать на его слова.
Молчала она и на следующее утро, когда он встал в привычное время, будто собираясь на работу. Она слышала, как он поднимался, но спрашивать ни о чем не стала. Притворилась спящей. И когда после обеда в привычное время он вернулся домой, тоже не произнесла ни слова.
Он встал на учет по безработице. Биржа труда находилась на Курт-Шумахер-аллее, между Домом профсоюзов и городским отделением СДПГ, здание из красного кирпича, в котором он еще ни разу не бывал. Работу они начинали в восемь; ему пришлось дожидаться на улице. Незадолго до восьми он уже стоял в плотной людской толпе, насчитывавшей, как он прикинул, человек двести-триста, она вынесла его к дверям, будто на гребне огромной волны. В вестибюле ему удалось вырваться из общего потока. Он прислонился к стеклянной стенке и закурил. С ума сойти. Да где мы находимся в конце-то концов? Ведь это немыслимо. В голове у него не укладывалось, что теперь он поставлен на одну доску со всеми этими турками, греками и югославами (как будто среди них совсем не было немцев). С этим стадом, которое ведет себя так, словно вот-вот подохнет с голоду. Они продают себя как рабочий скот.
Когда он наконец нашел нужную комнату и внес свою фамилию в список, по которому вызывали, на скамье перед дверью свободных мест не было, пришлось стоять. Узкий длинный коридор был забит людьми, через считанные минуты воздух стал сизым от сигаретного дыма. Почти никто не разговаривал. И как это я здесь стою, подумал он. Ведь быть такого не может, чтобы в наше время человек стоял под дверью, как последнее дерьмо, и ждал, когда ему швырнут кусок.
Скоро на скамье освободилось место, и он сел, но ощущение собственного бессилия стало только острее. Скамья подсудимых, подумал он, скамья смертников. Все сидели впритирку друг к другу. Он сдвинул колени, прижал руки к телу. Стоило ему хоть немного расслабиться, опереться на соседей — и сидеть стало бы удобнее. Но он не шевелился, будто скованный по рукам и ногам, а в душе тем временем поднялась буря, целый ураган воображаемых движений, стремительное бегство, сокрушающее все на своем пути. Все ближе минута, когда выкликнут его имя.
И все же ему стало легче, когда он вошел в кабинет и ситуация обрела четкие контуры, сосредоточилась в человеческом лице по ту сторону стола, румяном и обнадеживающем лице. Уже почти совсем спокойно он назвал свое имя, возраст, специальность, общий трудовой стаж, фирму, категорию заработной платы. По мере того как он перечислял все это, что-то у него внутри как бы распрямлялось, набирало силу. Однако, к его глубочайшему изумлению, чиновник (господин Кремер) только покачал головой. Для него у них ничего нет, господину Кремеру даже нет нужды лишний раз справляться в картотеке.
То есть как это для него ничего нет?
При случае, конечно, пусть заходит. Время от времени вакансии все же появляются. Правда, их тут же расхватывают те, что дожидаются в коридоре. Но как бы там ни было, он непременно известит господина Маттека, если появится что-нибудь подходящее.
Да ведь такого просто не может быть!
У Дома профсоюзов он еще раз оглянулся. Позади биржи труда, на слегка выступающем вперед фасаде, сияли буквы — СДПГ.
Ему страшно захотелось выпить пива и большую рюмку водки. Почувствовать себя платежеспособным.
Почти две недели он уходил по утрам из дому, будто на работу, и возвращался уже после обеда, будто и в самом деле от стоял смену за станком. Почти две недели Марион ни о чем его не спрашивала — ни куда он собирается, ни откуда приходит. Она не говорила ни слова. Он тоже. Вообще-то они разговаривали друг с другом, только не о главном. И это было все равно, как если бы они вдруг лишились дара речи.
Мысленно возвращаясь к той минуте, когда он объявил свою новость, она не могла найти более подходящих слов, чем "гром среди ясного неба". Впрочем, небо это давно уже не было ясным. Число людей, потерявших работу, было им известно. Вот уже сколько лет по телевизору сообщали, что цифры эти растут. И о чем они только думали, слушая все это? — спрашивала она себя теперь. Да ни о чем!
Ведь этого просто не может быть — вот что они думали.
Они не верили цифрам. Она вдруг поняла, что внушенные им представления об окружающем мире исключали такие понятия, как трудности сбыта, безработица, нищета. Западногерманская модель. И представления эти были настолько прочными, устойчивыми, что все цифры, связанные с безработицей, вроде и не существовали. То есть на самом деле они существовали, и в то же время их как бы не было. С течением времени, однако, все больше информации, данных, фактов просачивалось в их сознание, все дольше маячили перед глазами тревожные цифры. Как летней порой небо иногда незаметно подергивается легкой дымкой, которая потом исподволь начинает окрашиваться в серый цвет, так в их дом исподтишка закралось какое-то смутное беспокойство, тревога. Предгрозовая атмосфера действовала и на него: Марион подмечала, например, что он делался нарочито рассеянным, едва речь на экране заходила о цифрах (обычно о них рассуждал толстый, явно низкорослый комментатор с одутловатым бульдожьим лицом). Тогда Хайнц тянулся за сигаретой, или хватался за иллюстрированный еженедельник, или просто заводил разговор. Она подмечала, что он все чаще разглагольствует о положении со сбытом на своем предприятии, отчаянно стараясь сохранить при этом маску самодовольного спокойствия. От нее не укрылось, как он нервничал, когда в телевизионной программе всплывало слово "рационализация". Но ведь этого просто не может быть. У них на глазах чему-то приходил конец.
На самом же деле оба ждали. Больше даже она, чем он, он ведь годами изо дня в день воочию видел происходящее на предприятии. Она точно рассчитала, сколько еще предстоит выплатить за вещи, купленные в кредит, и какую сумму составляют постоянные расходы. И для них теперь тоже что-то кончилось. После стольких лет устойчивой, обеспеченной жизни они вдруг вступили в период ожидания. Почва под ногами, которая всегда казалась такой надежной, вдруг заколебалась. Сумеют ли они удержаться?
Они не разговаривали друг с другом. Собственно, обсуждать-то было нечего. Все без толку. Программы разумного регулирования конъюнктуры не выполнялись, число безработных росло.
Вот о чем размышляла она, после того как он сообщил ей об увольнении. Когда смысл его слов наконец-то дошел до нее, она похолодела от страха. А он все говорил, говорил, и страх сменился яростью. С каким видом он прежде восседал перед ней? Меня, дескать, все это не касается. Со мной ничего плохого случиться не может.
Ну а что реально они оба сумели бы предпринять?
В подобных делах у них не было никакого опыта. О безработице оба знали лишь по рассказам родителей, наводившим дикую скуку, и считали ее чем-то безобидным и не опасным, принадлежащим давно минувшим временам.
И вот однажды утром она застала его в кухне. Заслышав ее шаги, он было вскочил, но поздно: она вошла. Он был уже в куртке и шапке. Она быстро включила все конфорки, поставила на плиту чайник и кастрюльки.
— Сейчас дети прибегут, — сказала она.
Он не двигался с места.
— Сними в таком случае куртку, — сказала она.
Я будто во сне. Не могу пошевельнуться. Не могу остаться здесь и не могу уйти. Внутри у меня будто что-то оборвалось.
Решай, не тяни.
Ну, вот и решил.
Карстен и Рита влетели одновременно.
— А, ты еще здесь, — сказал Карстен. — Проспал?
— Нет.
— Ты плохо себя чувствуешь? Заболел? — спросила Рита.
— Нет.
— Тогда почему ты не на работе? — удивился Карстен.
— Потому что работы у меня больше нет.
— И давно? — спросила Рита.
— Уже две недели.
— А куда ж ты ходил каждое утро все это время?
— На биржу труда.
— Ну и что, есть у них работа? — спросил Карстен.
— Нет.
— Тогда зачем ты ходил туда каждый день?
Он не ответил.
— А почему ты нам ничего не сказал?
— Я сказал матери.
— Но ведь не нам же, — вставила Рита.
— Вы оба ничего нам не сказали, — добавил Карстен.
— Пойдем. — Марион взяла у него рабочую сумку, стянула с него куртку, сняла шапку. — Сейчас тебе нужно прилечь.
И вывела его из кухни.
Около десяти он проснулся. Квартира была пуста. В комнатах было прибрано, на кухонном столе его ждал завтрак, возле термоса с горячим кофе лежала свежая газета, но он к ней не притронулся. Еще ни разу он не видел квартиру такой. Казалось, будто у каждой вещи, даже самой маленькой, есть свое, только ей предназначенное место. Когда Марион вернулась из магазина, он все еще сидел за кухонным столом.