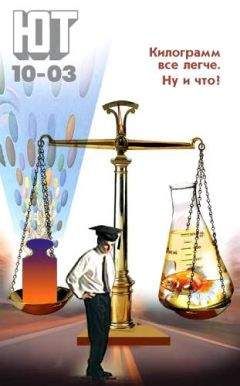Александр Слонимский - Черниговцы (повесть о восстании Черниговского полка 1826)
В 1818 году весной граф Витгенштейн был назначен главнокомандующим второй армии на юге. Пестеля он брал с собой. Перед отъездом на юг Пестелю был предоставлен продолжительный отпуск, которым он воспользовался, чтобы побывать в Петербурге.
Утром, когда Сергей с Якушкиным сидели за чаем, явился денщик от Пестеля.
— А, Савенко, друг любезный! — приветствовал его Сергей. — Давно не видались!
Тот, широко улыбаясь, подал записку.
— Прикажете ответ отнести? — спросил он.
— Скажи, сейчас буду! — сказал Сергей, быстро сбрасывая халат и облачаясь в мундир.
Сергей непременно хотел познакомить Якушкина с Пестелем.
— Увидишь, что это за голова! — говорил он, смеясь от радости.
Якушкин было отнекивался, но потом согласился.
Пестель остановился у своего брата в кавалергардских казармах у Марсова поля. Денщик Савенко провел Сергея с Якушкиным к нему в кабинет. Пестель сидел за письменным столом и писал что-то, изредка заглядывая в разложенные перед ним книги. Он встал из-за стола, обнял Сергея и приветливо протянул руку Якушкину.
Все сели. Якушкин с любопытством смотрел на Пестеля. На нем был простой армейский сюртук с красным воротником и почерневшими штабными эполетами. Густые черные волосы были зачесаны наперед, но не закрывали высокий лоб, а загибались кверху ровным хохолком. Движения его были быстры, как у юноши.
Сразу закипел разговор о предмете, который возбуждал тогда кучу толков в обеих столицах, — о варшавской речи императора при открытии польского сейма, в которой он прямо заявлял, что намерен в скором времени — точного срока он не указывал — ввести конституцию и у себя в России. Сергей рассказывал, что члены Союза благоденствия по этому случаю весьма ободрились, а некоторые поговаривают даже о том. чтобы открыться императору.
Он тут же прочел наизусть ходившие по рукам стихи молодого поэта Пушкина:
От радости в постели
Запрыгало дитя.
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»
А мать ему: «Бай-бай! закрой свои ты глазки,
Пора уснуть бы, наконец,
Послушавши, как царь-отец
Рассказывает сказки!»
— Да, именно сказки! — со смехом повторил Пестель.
Он повернулся к Якушкину.
— Я слышал от Сергея Ивановича, — сказал он с вежливой улыбкой, — о вашем намерении освободить своих крестьян. Си писал мне об этом. Что ж, дело хорошее. Но я думаю, что вы пошли неверным путем.
Якушкин был неприятно поражен самоуверенным тоном Пестеля. Улыбка его показалась ему холодной и принужденной а речь развязной и дерзкой. Он промолчал и нахмурился.
Пестель, выждав секунду и видя, что Якушкин не собирается отвечать, продолжал:
— Видите ли, освобождение крестьян без земли невозможно. По счастью, оно и запрещено законом. Конечно, закон охраняет не благополучие крестьян, а доходы казны, так как с голого взять нечего. Но все же в этом случае он обнаруживает больше мудрости, чем, например, Николай Иванович Тургенев, который, как я знаю, допускает освобождение крестьян без земли, не понимая, что их положение стало бы тогда еще хуже. Что такое свобода без куска хлеба? Это свобода только по имени. Не так ли?
— Но какой же помещик согласится даром отдать свою землю? — не сдерживая своего раздражения, возразил Якушкин. — Предлагать это помещикам — значит, только их напугать и навсегда отвратить от дела освобождения.
— Освобождение крестьян есть мера политическая, а отнюдь не частная, — с видом неудовольствия произнес Пестель. — Можно обойтись и без согласия помещиков. Освобождение будет произведено силой государственной власти… — Помолчав немного, он добавил: — Вместе с переменой всего государственного порядка в целом.
Пестель встал с места и прошелся по комнате. Остановившись перед Якушкиным, он заговорил снова.
— Впрочем, выгоды, которые получат дворяне наравне с прочими россиянами при новом устройстве, — сказал он, глядя на него с прежней вежливой улыбкой, — будут гораздо важнее, чем те преимущества, коих они лишатся. Малое они променяют на большое, не говоря уже о том, что потеряют постыдное, а приобретут достойное и справедливое. Что же касается дворян, закосневших в своих предрассудках и воображающих, что вся Россия существует только для них, то… — Он помедлил немного, а затем совершенно спокойно докончил: — То найдутся средства укротить их свирепость, хотя бы для этого пришлось прибегнуть к действиям непреклонной строгости.
«Вот он, якобинец!» — подумал Якушкин.
Опять воцарилось молчание.
Сергей стал рассказывать о делах общества. Пестель слушал его с живым интересом, изредка прерывая его короткими замечаниями и вопросами. Заговорили о плане преобразований в России. Якушкин сказал, что наилучшим образцом могла бы служить умеренная французская конституция, хотя бы и без двух палат. Пестель вступил с ним в спор. К Пестелю присоединился Сергей. Оба доказывали преимущества испанской конституции 1812 года, основанной на всеобщем избирательном праве, перед французской конституцией 1814 года, по которой избирателями могли быть только состоятельные люди.
— Народ у нас поголовно безграмотный, — упрямо возражал Якушкин, выгоды конституции для него непонятны.
— Он так и останется безграмотным, если отстранить его от участия в правлении, — заметил Сергей.
— Государство существует для блага всех и каждого, — заговорил Пестель, — а не для выгоды некоторых с устранением большинства. Что мы видим в Европе? Народы борются с феодальной аристокрацией — аристокрацией привилегий, а между тем нарождается новая аристокрация — ужасная аристокрация богатств. Легко уничтожить привилегии знатности — против них действует общее мнение. Но как быть с привилегиями богатства, если богатство само по себе есть сила, подчиняющая себе общее мнение? Задача закона — по возможности оградить бедняков от произвола богатых, а не лишать их последнего средства защиты. Неужели тяжелое и без того неравенство состояний нужно еще отягчать жестоким неравенством прав? Что же это за закон, если он становится на защиту сильного против слабого?
Якушкин больше не пробовал спорить. Как-то само собой случилось, что простые, ясные мысли Пестеля, похожие на геометрические теоремы, постепенно вытеснили его собственные прежние мысли. «Он мыслит, как математик», — вспомнились ему слова Никиты о Пестеле. Якушкин искал возражений, но больше не находил их. Сидя неподвижно в кресле, с нахмуренным лбом, он отдавался без сопротивления стройному ходу рассуждений Пестеля.
На прощание Пестель крепко пожал ему руку и поглядел на него с улыбкой. Это была уже не прежняя натянутая улыбка, а веселая, искренняя и добродушная. Якушкин, сам не зная почему, обрадовался и на рукопожатие Пестеля ответил таким же крепким рукопожатием.
Якушкин и Сергей медленным шагом шли по Невскому проспекту, возвращаясь к себе в Семеновские казармы. Подхватив Якушкина под руку, Сергей горячо убеждал его вернуться в общество.
— Вы привозите поручения от московских членов, — говорил он ему, — знаете все, что у нас делается, и в то же время к обществу не принадлежите. Это ведь странно.
Якушкин уступил доводам Сергея. На другой день он явился к Никите. Никита дал ему подписать бумажку с клятвенным обязательством, которую должны были подписывать все вступающие в Союз благоденствия. Якушкин улыбнулся и подписал бумажку не читая. Он знал, что она сейчас же будет сожжена
Приходили вести из Европы, пугавшие одних и пробуждавшие у других какие-то неясные радостные ожидания. Казалось, вот-вот сейчас рухнет восстановленный повсюду Венским конгрессом старый, деспотический порядок, поднимутся угнетенные народы и сбросят с себя ярмо самовластия и феодальных насилий. Весной 1819 года юный Карл Занд, немецкий студент, восторженный патриот и поклонник свободы, заколол кинжалом известного Августа фон Коцебу, автора слезливых романов и драм и вместе с тем доносчика, прислужника князя Меттерниха и императора Александра. В феврале 1820 года в Париже бедный ремесленник, по имени Лувель, убил герцога Беррийского, принца королевской крови, ближайшего наследника французского престола. Прогремела весть о том, что в Испании революция. В январе 1820 года храбрый генерал Риего провозгласил в Кадиксе конституцию 1812 года, уничтоженную королем Фердинандом VII, и двинулся со своим отрядом к Мадриду. Король принужден был подчиниться и присягнул конституции.
Испанская революция встревожила всех монархов, и прежде всего императора Александра. Он настаивал на том, чтобы европейские державы, соединившись вместе, восстановили в Испании самодержавную власть короля, и для расправы с мятежниками предлагал свои войска. Но даже князь Меттерних, несмотря на всю свою ненависть к либерализму и к революции, не соглашался на это: он опасался честолюбивых замыслов русского императора.