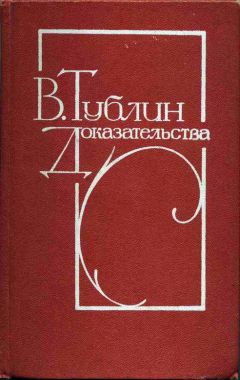Валентин Тублин - Доказательства: Повести
Одним словом, дело было в прошлом году, и вся каша заварилась из-за сочинения. Это был конкурс, и наша эрмитажная команда участвовала в этом конкурсе. И Косте было поручено (или, может быть, лучше сказать — доверено) писать на этом конкурсе от всей нашей группы сочинение. И он написал его, конечно. Только получилось так, что если до этого самого сочинения, то есть перед самым последним туром, мы спокойно и с отрывом шли на третьем месте, то после этого в итоге оказались на девятом, то есть предпоследнем, — потом был еще ужасный скандал. Я даже не знаю, где и когда мы вели себя по отношению к нему, к Косте, более подло, — когда огласили итоги этого дурацкого конкурса, который в итоге оказался чистой липой, или уже после, когда вокруг этого сочинения стали раздувать историю. Мне кажется, что мы подло вели себя и там, и там. В результате Костю чуть не поперли из комсомола. Вернее, уже и поперли, но, когда дело дошло до райкома, — райком не утвердил.
Да, вот какая это была история. И произошла она в феврале. Я даже скажу более точно — это произошло первого февраля. Я запомнил этот день совершенно точно, потому что (но я расскажу об этом позднее) именно в этот день мои родители получили из своего министерства подтверждение, что их направляют на работу за границу. Как сейчас помню, холод был лютый, и я пронесся из школы домой как стрела, потому что бежал в тапочках и чуть не обморозил себе все на свете.
Да, эта история произошла именно первого февраля. Но прежде чем решить, рассказывать ее или нет, я хотел бы спросить: как понять, способен человек на подлость, на низкий поступок или нет? Или даже не так. Вот живет человек, и до поры до времени он такой же, как и все, — ходит себе в школу, занимается в разных кружках и говорит всякие правильные слова о дружбе и о всем прочем, а потом настает день, и он совершает какую-нибудь пакость. Но даже и не это самое потрясающее. Самое потрясающее то, что вот ты эту пакость сделал — скажем, проголосовал за исключение своего лучшего друга из комсомола. Да, на вопрос: «Кто за исключение?» — поднял вместе со всеми руку, а потом сам себе не веришь. Вот не веришь и все. Будто это был не ты, не твоя рука, и ты тут вовсе ни при чем. Такое вам знакомо?
Никогда бы в это не поверил, клянусь. Но это было. Именно так. Я сам и был таким человеком, и все было, как я говорю. Но вы можете убить меня или разрезать на куски — я не объясню вам, как же это было и как произошло.
Может быть, тут виноват массовый гипноз или еще что?
Нет, не могу понять, и, думаю, никто не поймет, в чем тут дело. И раз так, нет даже смысла рассказывать и распространяться про все остальное — про конкурс и про сочинение. Скажу только, что все дело упиралось в поездку за границу. В самом начале этого конкурса было объявлено, что команды, занявшие на этом конкурсе три первых места, поедут за границу. В порядке, так сказать, культурного обмена. Мы — туда, а они, очевидно, сюда. Не знаю, чья это была идея, но идея, надо сказать, отличная. Немцы приглашали к себе в Дрезден, а поляки — в Краков, а одно приглашение пришло даже из музея в Брюгге. Нет, правда, отличная идея. Неудивительно, что мы завелись, — кто бы не завелся. Я думаю, что и остальные группы завелись не меньше. Я даже не предполагал, что в Ленинграде столько детских групп — при музеях, не только в Эрмитаже, — огромное количество ребят. Тем более тема конкурса была — «Ты и твой город». Название вроде бы простое, но сам конкурс был здорово сложным, потому что организаторы хотели, чтобы уж если кто куда поедет, мог бы рассказать о нашем городе все. Не ударил бы в грязь лицом нигде. В общем, конкурс был что надо, — из десяти пунктов. И до последнего тура — до сочинения — мы твердо шли третьими, и оставалось только гадать, куда именно мы поедем, в какую страну. В общем, даже трудно было сказать, что мы третьи, — у нас было очко в очко с теми мозговитыми ребятами из кружка любителей искусств при Академии художеств и командой трехсотой специализированной школы. А остальные остались далеко позади, и нам оставалось только получить хотя бы один балл из десяти возможных — и минимум третье место было бы наше. А что такое один балл? Это можно было просто ничего не писать. Сочинение называлось — «Я счастлив, что я ленинградец». Хотя нет, не так — «Я горд тем, что я ленинградец». Именно так — не счастлив, а горд. Сочинение — нечего делать. Тем более, что писать его поручили Косте. Он это умел. Вы бы почитали его сочинения в Эрмитаже — закачаешься. Нет, правда. Отличные сочинения, у нас двух мнений не было, кому это дело поручить. Я горд тем, что я ленинградец. Да любой бы написал.
Правда, потом уже вспомнили, что Костя не хотел за это браться. Только на это сначала никто не обратил внимания. Мало ли что не хочет. Костя говорил — и я это тоже вспомнил, но много позже, — что эта тема ему не нравится. Вернее, такой ее поворот. Но его, понятно, никто не слушал. Такой поворот или другой поворот. Я ему тогда так и сказал — напишешь, мол. Ты ведь горд тем, что ты ленинградец, — говорю. А он — и вовсе, говорит, не горд. Чем, говорит, тут гордиться. А ты, говорит, ты горд?
— Горд, — говорю. — Я горд.
— Ну так, может, ты и напишешь? А то я чего-то тут не пойму постановки вопроса.
— Вот и разберись, — говорю. — Разберись в этом вопросе. В этом ужасно сложном вопросе.
— Никак, — говорит, — не разберусь. Это ведь вовсе не простой вопрос. Не хотелось бы писать. Я, — говорит, — однажды на эту тему думал…
— Вот, — говорю, — и подумай еще. Додумай до конца. Развей свои мысли в письменной, так сказать, форме. И вообще — хватит, — говорю, — тебе ломаться. Напишешь.
Вот он и написал.
Кончилось все это, как я уже говорил, довольно плачевно. Не заняли мы третьего места. Потому что за Костино сочинение нам не только не дали ни одного балла, но даже еще и сняли пять, что, впрочем, было противозаконно. И вокруг этого сочинения подняли такую бучу, что для Кости это едва не кончилось исключением из комсомола, потому что — так нам объяснил председатель конкурсной комиссии — своим сочинением Костя опозорил нас навеки. И не только нас — весь наш город. А может быть, и весь комсомол, а может быть, и всю страну, и по одному этому не место ему в комсомоле… Ну и так далее…
Потому что в сочинении (но мы узнали это много позже) он написал так: что он, мол, принимает эту тему для сочинения — «Я горд тем, что я ленинградец» — чисто условно. Что он принимает ее как тему для разговора на такую — назовем ее этической — тему, чем человек может и чем он должен гордиться, а чем он гордиться не может и не должен. Только так, писал он, может он признать за этой темой право на существование. А иначе она, по его мнению, вообще лишена всякого смысла. Потому что, писал он, совершенно странно было бы думать, что место твоего проживания или даже место прописки может служить объектом гордости. В этом, писал он, есть даже нечто, совершенно несовместимое с настоящей моралью, тем более социалистической. Гордиться — если уж говорить о гордости — вообще незачем. Или уж тем, что ты сделал для людей, чем ты им помог, — ну и так далее. А так, написал он дальше в своем чертовом сочинении, можно дойти до того, что начнешь гордиться цветом волос или формой носа. Или еще чем. И так далее. Не может и не должен, так писал он, человек гордиться тем, что он ленинградец. Чем он лучше, скажем, того, кто и в жизни в Ленинграде не был. Чем он лучше жителя Курска, Архангельска или какой-никакой деревни. Скажем, есть в Новгородской области деревня Борки. Так чем я должен перед, ними гордиться?
Словом, вот в таком духе. Отверг он такую постановку вопроса. Даже написал, что на месте конкурсной комиссии не стал бы давать даже такую тему. Что она сбивает с толку, неправильно ориентирует ребят… и так далее.
Я до сих пор не пойму, с чего взбеленился председатель этой комиссии, который и потребовал, чтобы с нас в наказание сняли пять очков. Он, по-моему, обиделся насмерть. Он, по-моему, принял на свой счет то место в сочинении, в котором говорилось, что ни один настоящий ленинградец никогда не стал бы гордиться своей ленинградской пропиской. Может быть, он — я имею в виду председателя комиссии — и впрямь приехал в Ленинград недавно. Может, он из-за этого обиделся — из-за чего бы еще? Но так или иначе — именно он заварил всю бучу. Но что самое удивительное — мы ему поверили. Когда он выступал на нашем комсомольском собрании и говорил, как нас подвел Костя, как опозорил и все такое прочее. Мы и вправду были здорово огорчены, что все наши надежды на поездку за границу рухнули в одно мгновение, а председатель доказывал, что обязаны мы этим исключительно такому сочинению. В общем, всей толпой мы навалились на Костю и потребовали от него… Чего мы требовали? Покаяний? Объяснений? Я до сих пор, клянусь, не могу вспомнить об этом без стыда. Что с нами случилось? Мы его просто ненавидели, потому что он не собирался ни каяться, ни объясняться. Но мы все ему припомнили — все и всё — во главе с нашим завучем, Жозефиной, по прозвищу Буйвол, и тем председателем, который даже голос от негодования сорвал. Я думаю, окажись в это время наш директор Б.Б. в школе, ничего бы этого не произошло, но его не было. Так что некому было нас унять, когда мы на Костю навалились. Под конец, мне кажется, мы уже просто согласны были чтобы он хоть просто что-нибудь сказал, но он не говорил. Он стоял и слушал, белый-белый, а когда все завопили, чтобы он сказал что-нибудь в свое оправдание, он тихим-тихим голосом сказал одну фразу.