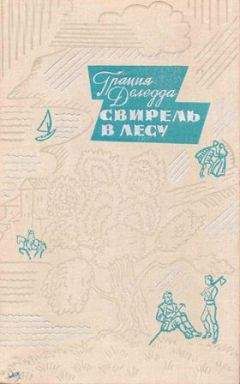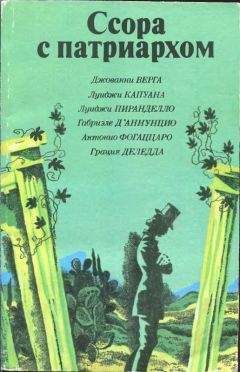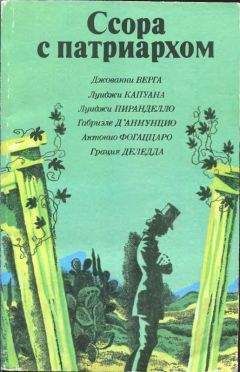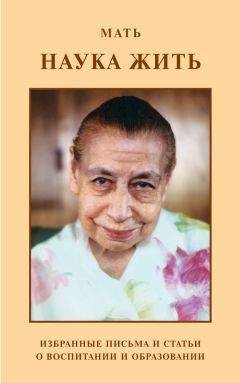Грация Деледда - Мать
— Аньезе, послушайте меня. Вчера вечером мы были на краю пропасти. Бог оставил нас, и нас повлекло к бездне. Но теперь бог снова взял нас за руки и ведет. Надо оставаться на высоте, Аньезе. Аньезе, — с силой повторил он ее имя, — ты думаешь, мне не больно? Мне кажется, что я заживо погребен и мое мучение будет длиться вечность. Но необходимо, чтобы было так. Так надо ради твоего блага, ради твоего спасения. Послушай меня, Аньезе, будь сильной. Ради самой любви, которая соединила нас, ради того блага, которое бог дарует нам, подвергая этому испытанию. Ты забудешь меня. Поправишься. Ты так молода. У тебя еще вся жизнь впереди. И потом, когда ты будешь вспоминать обо мне, тебе покажется, что это был скверный сон, будто ты блуждала в долине и встретила какого-то дурного человека, который хотел причинить тебе зло. Но бог спас тебя, потому что ты заслуживаешь спасения. Сейчас тебе все кажется черным, но вскоре, вот увидишь, вскоре все опять предстанет перед тобой в ореоле света, и ты почувствуешь, как много добра я несу тебе в этот момент, причиняя, правда, совсем ненадолго какую-то боль, как делают иной раз с больными, когда приходится быть жестоким…
Он умолк, ему показалось, что холод сковал все его существо. Аньезе слегка порозовела, приподнялась и устремила на него свои почти стеклянные, словно у ланей на стене, глаза, и он вспомнил, какими были глаза у женщин в церкви, когда он читал проповедь.
Аньезе, казалось, терпеливо и кротко ждала, что он скажет дальше. Но ее покорность, однако, готова была исчезнуть при малейшей неосторожности с его стороны. И действительно, поскольку он молчал, она произнесла шепотом, качая головой:
— Нет, настоящая правда не в этом.
Он с тревогой приблизился к ней:
— А в чем же?
— Почему ты не говорил со мной вот так, как сейчас, вчера вечером? И в другие вечера? Почему тогда правда была для тебя иной? Очевидно, кто-то узнал, что ты бываешь у меня, может быть даже твоя мать, и ты испугался всех на свете. Вовсе не страх перед богом вынуждает тебя бросить меня.
Ему захотелось закричать, даже ударить ее. Он схватил ее руку и слегка вывернул тонкое запястье. Вот точно так же он хотел бы, если б смог, ухватить рукой ее слова и с болью изничтожить их. Он отстранился от нее и рывком поднялся с дивана.
— Допустим! И тебе кажется этого мало? Да, моя мать все поняла и говорила со мной как моя собственная совесть. А у тебя разве нет совести? По-твоему, это хорошо, что мы должны причинять боль тому, кто живет только ради нас? Ты хотела, чтобы мы бежали, жили вместе. И это было бы правильно, если б мы не могли отказаться от нашей любви. Но раз есть человек, которого наше бегство, наш грех убьет, необходимо пожертвовать собой ради него.
Но она, казалось, слышала только отдельные слова и все продолжала качать головой.
— Совесть? Конечно, у меня тоже есть совесть. Я ведь уже не девочка. И совесть мне подсказывает, что я поступила плохо, позволив уговорить себя и принимать тебя тут. Ну а теперь что делать? Теперь уже слишком поздно. Почему бог не вразумил тебя раньше? Разве это я пришла к тебе? Ты, ты пришел ко мне в дом, увлек меня, как вовлекают в игру ребенка. А что я должна теперь делать? Вот ты и скажи мне: что я должна делать? Я не в силах забыть тебя и не могу изменить себе, как это делаешь ты. Я все равно хочу уехать, даже если ты не поедешь со мной. Я хочу уехать… или же…
— Или?
Аньезе не ответила. Она сжалась в своем углу и вздрогнула. Что-то мрачное, должно быть, черное крыло безумия коснулось ее, потому что глаза ее затуманились и рука инстинктивным движением как бы отогнала какую-то тень. И он снова низко наклонился, почти прильнул к ней, ухватившись за ветхую обивку дивана, и у него возникло ощущение, будто он скребет ногтями по какой-то стене, возникшей перед ним и душащей его.
Он не в силах был больше говорить. Да, она была права. Правда заключалась не в том, что он пытался внушить ей. Правда заключалась в этой стене, душившей его, и он не мог разрушить ее. Он вскочил в испуге от реального ощущения удушья.
Но теперь она схватила его за руку и сжала своими ставшими вдруг цепкими пальцами.
— Бог, — прошептала она, прикрывая другой рукой глаза, — бог, если он существует, не должен был допустить, чтобы мы встретились, если он задумал разлучить нас. И раз ты вернулся сюда, то это потому, что ты все еще любишь меня. Ты думаешь, я не знаю этого? Знаю, знаю. Вот в этом и заключается вся правда.
И она прямо взглянула ему в глаза. Губы ее дрожали, пальцы, которыми она закрывала лицо, были влажны от слез, капающих с трепещущих ресниц. И ему показалось, будто он смотрит в мерцающую пучину, ослепляющую и манящую его, а не в лицо Аньезе, которое было уже не просто женским лицом, а ликом самой любви. И он снова склонился к ней и поцеловал в губы.
И ему почудилось, будто, захваченный водоворотом, он и в самом деле медленно погружается в светлую водную глубь — в какую-то переливающуюся красками головокружительную бездну.
Потом, оторвавшись от ее губ, он словно всплыл на поверхность и, как потерпевший кораблекрушение, оказался на берегу, уставший, исполненный страха и радости, но больше страха, чем радости.
И волшебство, исчезнувшее, как ему казалось, навсегда и оттого еще более прекрасное, воскресло вновь.
Он опять услышал ее шепот:
— Знаешь, знаешь, я была уверена, что ты вернешься…
Как и тогда, когда в доме Антиоко говорила служанка, он не хотел слышать ничего другого. Он прикрыл ей рот ладонью, она положила голову ему на плечо, и он ласково погладил ее волосы, отливающие в свете лампы золотистым блеском. Такая маленькая, так доверчиво прильнувшая к нему, она обладала, выходит, могучей силой, способной увлечь его в пучину моря, вознести к бескрайним высям небес, превратить его в безвольное существо. И пока он скрывался от нее в долине и на плоскогорье, она, заключенная в своей тюрьме, ждала его и знала, что он вернется.
— Знаешь, знаешь…
Она хотела еще что-то сказать. Ее дыхание словно петлей обвивало его шею. Он снова прикрыл ей рот ладонью, и она сильно прижала ее своей рукой. Они молчали и не шевелились, словно ожидая чего-то. Потом он пришел в себя и попытался снова стать хозяином своей судьбы. Да, он вернулся, но уже не таким, каким она ждала его. И он продолжал смотреть на ее отливающие золотистым блеском волосы как на что-то очень далекое, как на трепетное мерцание моря, из которого ему удалось выбраться.
— Теперь ты довольна, — прошептал он, — я вернулся, и я твой на всю жизнь. Но ты должна быть спокойна. Ты очень напугала меня. Тебе нельзя волноваться, и ты ничего не должна менять в своей жизни. Я больше не доставлю тебе никаких огорчений, но пообещай, что будешь спокойной и разумной, как сейчас.
Он почувствовал, как задрожали, затрепетали ее руки в его ладонях. Он понял, что она опять пытается сопротивляться. И он крепко сжал ее руки. Точно так же хотел бы он удержать безропотной пленницей и ее душу.
— Не надо, Аньезе! Послушай, ты никогда не узнаешь, какие муки я пережил сегодня. Но это было необходимо. Я столько сбросил с себя наносной грязи, я содрал с себя кожу до крови. И вот я здесь, твой, да, так богу угодно, чтобы я был твоим, чтобы принадлежал тебе всем существом. Понимаешь, — продолжал он после некоторого молчания, неторопливо, как бы извлекая слова из самой глубины своей души и преподнося их ей, — у меня такое ощущение, будто мы любим друг друга уже многие годы, будто мы все уже пережили вместе — и наслаждения, и страдания, вплоть до ненависти, вплоть до смерти. И все бури житейского моря, вся его неспокойная жизнь, все это — в нас. Мы бьемся-бьемся и все же остаемся в пределах, предназначенных нам. Аньезе, душа моя, что хочешь ты от меня, что еще я могу дать тебе, кроме своей души?
Он внезапно умолк. Он почувствовал, что она не понимает его. И не может понять. Он увидел, как она все дальше отходит от него, как жизнь от смерти. Но именно поэтому он сознавал, что еще любит ее, даже еще больше любит, как любит жизнь умирающий.
Она медленно подняла голову и поискала его глаза своим снова ставшим враждебным взором.
— Ты тоже выслушай меня, — проговорила она. — Не обманывай меня больше. Уедем мы или нет, как договорились вчера ночью? Больше нам нельзя жить здесь, в этом селе. Я знаю. Знаю, — с сердцем повторила она после минуты тягостного молчания. — Если мы хотим жить вместе, то немедля уедем, этой же ночью. У меня есть деньги, ты знаешь. Есть, и они мои. А твоя мать, и мои братья, и все со временем простят нас, когда увидят, что мы хотели жить по правде. А так — нет, так, это ясно, больше жить нельзя.
— Аньезе!
— Отвечай мне сразу же. Ну же, и не говори больше ни о чем другом.
— Я не могу бежать с тобой.
— Ах! Тогда зачем же ты вернулся? Оставь меня, уходи. Оставь меня!
Он не оставлял ее. Он чувствовал, как она вся дрожит. Он боялся ее. И, увидев, как она наклоняется к их сплетенным рукам, он решил, что она хочет укусить его.