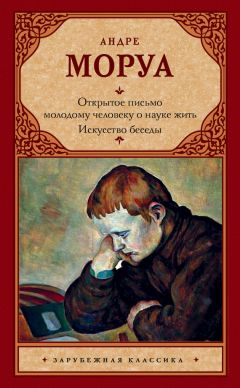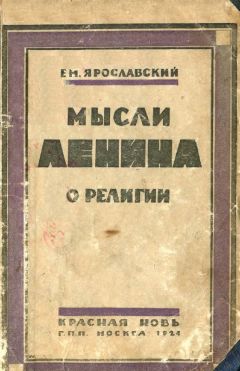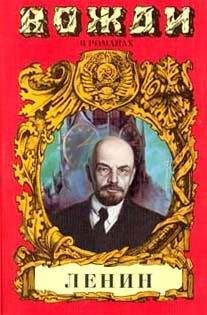Лидия Сефуллина - Каин-кабак
Он что-то еще хотел сказать, но передумал. Посмотрел ласково в лицо Егора и отошел.
Суд приговорил Алибаева к десяти годам лишения свободы со строгой изоляцией. Но, приняв во внимание его прошлые боевые заслуги, сократил этот срок наполовину. Под удар высшей меры отдали семерых во главе с атаманом Нехорошевым, На суде развернулась чудовищная картина зверской расправы нехорошевского отряде с отступниками и целый ряд тайных страшных убийств. К семерке применили революционный закон во всей его прямоте: расстрел без права обжалованы.
В тюрьме уже свободной стояла приготовленная смертникам камера, но все знали, что новые жильцы проживут в ней несколько часов, утра не дождутся.
Приговор был объявлен в дождливую весеннюю ночь в два часа.
У зданья суда и дальше на площади густо чернела толпа в сплошной темноте под дождем. Жадно ждала осужденных, хоть и невозможно было даже разглядеть их. Выводили сначала под кольцевой охраной смертников и на некотором расстоянье от них — остальных, приговоренных к заточенью, под конвоем менее страшным. Сквозь дождевую завесу тускло мерцали редкие и слабосильные фонари, освещая малые неясные пятна отдельных лиц среди людского скопища. Невидимые голоса, прорывавшиеся отдельно восклицанья, смех, чей-то надрывный плач — колыхались над площадью во тьме. В самой плотной черноте, в середине площади, вдруг произошла заминка. Раздались громкие окрики:
— Раздайсь! Расходись! Освободить дорогу!
— Стой! Что такое?
— Товарищ Рудой!
— Наза-ад! Наза-ад!
— Стрел я-ай!
В мокром воздухе один за другим глухо захлопали выстрелы. Налетела откуда-то конная охрана. Сквозь женские визги, шум и шлепающий панический топот бегущих очень сильный, уверенный мужской окрик:
— Все в порядке! Двигай дальше!
К охране, сопровождающей смертников, подскакал всадник.
— Что случилось?
Снизу, из тьмы, кто-то ответил:
— Ничего. В темноте-то, которых сзади ведут, кучей, сбились, прибавили шагу и натолкнулись на передних. Ничего, столпились, потолкались. Все целы: семеро. Сосчитай сам.
Никто не разобрал, что в толкотне Алибаев с огромной силой вышвырнул меж охраны в толпу народа Егора Кудашева и сам вошел на его место. Шагали медленно и ровно семеро, как прежде.
В камере, на свету, когда конвой захлопнул дверь и тяжело стукнул засов, Нехорошее схватил за плечо Алибаева:
— Ты, черт…
— Молчи! Задушу!..
Не прошло и часу, за дверью послышались осторожные шаги, заскрипел в замке неповоротливый большой ключ. Вошли люди с револьверами за поясом, с винтовками. Впереди высоколобый. Алибаев съежился, быстро повернулся спиной, но высоколобый не только сразу его увидел, но и все понял.
— Вместо кого? А? Нехорошее здесь? Кого нет?
Шестерых снова заперли в камере. Алибаева вывели.
Высоколобый не очень смело, глядя мимо Алибаева, спросил:
— Это что еще за фокусы?
Алибаев злобно прикрикнул:
— Не твоего ума дело.
Но потом спокойно и негромко, точно самому себе, вслух пояснил:
— Ошибку вашу поправить хотел, еще раз на добро было поцыкнулся. Может, еще и удастся, может, вызволится. Парень эдакий белому свету нужен. А меня куда берегете — не знаю.
Клавдя знала. Она усиленно хлопотала, во все ходы проникла, съездила в Москву и там сумела облегченья участи Алибаеву добиться. Последняя его выходка была прощена, потому что Кудашев не убежал.
Прошло только полтора года, и Клавочка высвободила Алибаева. Старая Клавдина тетка встретила их хлебом-солью у ворот. Входя в свой дом, Клавочка вздохнула всей грудью и сказала:
— Ну вот, все хорошо. Я опять своему мужу жена и нашему дому хозяйка. Ох, надоело мне мотаться по судам.
Повернулась к Алибаеву и настоятельно сказала:
— Я надеюсь, Гриша, что ты теперь окончательно остепенился. Пора тебе честную старость себе добывать.
Как-то заехал к ним Савелий. За чаем, оглядывая одобрительным взглядом стол и располневшую румяную Клавдю, сказал Алибаеву:
— Не знай, за какое твое добро, Григорий Петрович, бог жену тебе такую послал. Без нее так бы и капут тебе. Дуром окочурился бы в какой-нибудь передряге. А теперь гляди, в дому добра — на детей и на внуков хватит. Сами оба наливные, не укулупаешь. Седой ты, да седина не в укор, коль детей еще печешь. Покрикивает наследник-то, растет? Только не в тебя, а в мать задался.
Савелий знал, что дитя привозное. В город Клавдя выезжала нередко, да и Шурка, случалось, сюда завертывал. Еще когда Алибаева выхлопатывала, сблизилась с Шуркой. Знал об этом и Алибаев. Но Клавдя ясно взглянула на Савелия и тепло улыбнулась.
— Растет. На отца непохожий лицом, не знай, какой характером удастся. С муженьком-то натерпелась я беды, не довелось бы еще и с сыночком.
Алибаев, навалившись грудью на стол, жадными пальцами тянул к себе кусок жирного пирога. Он равнодушно поглядел на Клавдю, на Савелия и, лениво ворочая языком, маловнятно отозвался:
— Какой-нибудь вырастет. Кричит только больно шибко.
Туго забив рот пирогом, выпучил глаза.
— Вот ведь как, Клавдия Тимофеевна, ты остепенила человека. Крик слышать стал. А раньше сам без крику часу не жил. Ну, знаешь, Григорий Петрович, я все тебе прощаю. Много ты мне страху задавал, все прощаю. А вот как вы с чекистами коня у меня угнали, этого не прощу И сейчас, как вспомню, ругаться с тобой охота.
Алибаев сильно огрузнел. Память у него тоже будто жиром затянуло. Он искренно ответил:
— Какого же это коня? Я чего-то забыл про коня. Какой конь?
Он редко вспоминал отдельные случаи из прошлого. И вся его былая жизнь вспоминалась ему дремотно, будто в жарко натопленной комнате, разморенный теплом, он смутно улавливал ухом взвыванье далекой непогоды.
Клавдя взглянула на него и ласково посоветовала:
— Не бери третий кусок, опять под сердце задавит. Не жалко ведь, ешь на доброе здоровье, да ведь тебе же под сердце задавит. Ну-ка, возьми вот, утрись, щеки у тебя намаслились. Муж у меня неплохой человек, Савелий Максимович. Только надурил много. Пораньше бы ему оглянуться на себя да вот эдаким спокойным манером зажить, как сейчас. В партии состоял, не удержался, — жалко. Дельному человеку лучше всего, когда он партийный. В работе шире можно развернуться. Я бы и сама партийной работой занялась, кабы было на кого хозяйство оставить. Тетя уж очень постарела, только и может, что ребенка нянчить, — и на том спасибо, все помощь. Вы-то, я знаю, по старой закваске, партии опасаетесь.
— Будешь опасаться, как зятька такого, как Леонтий, наживешь. Бабе-то, конечно, все одно — с кем живет, в ту дугу и поет, но мне Аннушку жалко. Ни достатку основательного, ни почету В прежнее-то время я бы ее не так устроил.
— Я тоже дивлюсь, Савелий Максимович, как люди не умеют устраиваться. Хоть бы для пользы дела сообразили. В городе я знаю одного — уважаемый партийный, вроде начетчика по разным собраньям выступает. А гляжу один раз — дерет на собранье на это пешедралом через весь город, чисто беспартийный какой. Лошади себе даже не исхлопочет. Вот и у нас сын комсомолец, то есть пасынок-то мой, — ну, да мы с ним дружно живем, все одно я его за родного сына считаю, и он меня больше Григория Петровича уважает, — так вот он тоже неразумный в этом деле. Это уж у него от Григория Петровича. Разговаривает он со мной, я ему ведь сочувствую, он любит со мной беседовать, а попросить его поддержку какую исхлопотать — нельзя. Сейчас зафордыбачит. А что же, так без поддержки и в кулаки недолго попасть. Вот тебе боевой партизан Алибаев, гроза на всю округу, а в кулаках засчитают за хозяйство. Ох, надо бы, Гриша, тебе заслуги-то боевые отчистить как-нибудь.
Алибаев, шумно сопя, поднялся, голосом искательным, неуверенным проговорил, глядя в сторону:
— А што, праздник ведь сегодня. Я пойду с теткой в подкидного дурака сыграю.
С недавнего времени он очень пристрастился к этой нехитрой карточной игре. Так самозабвенно ей предавался, что Клавдя иногда не могла дождаться его по делу. Приходилось вместо него самой с работником в амбар ходить, овес лошадям отпускать. И Клавдя ласково, как всегда, но безотменно наложила запрет на «подкидные дураки» в будни.
Клавочка проводила взглядом тяжелую, широкую книзу фигуру Алибаева. Когда его шаркающий шаг перестал быть слышен, негромко сказала Савелию:
— Надо куда-нибудь его пристроить. Может быть, еще для какого-нибудь дела сгодится, а то эдак кровь застоится, не дай бог и удар хватит. Может быть, вот в потребительскую лавку Работа общественная, тоже все-таки неплохо. Он же боевой партизан, все-таки этого у него уж совсем-то не отняли. В городе ему легче устроиться, да жизнь там нетихая, беспокойная все-таки. И хозяйства такого уж не разведешь. Здесь крестьянствуем потихонечку.
Летним вечером Алибаев сидел на приступке у входа в потребительскую лавку. Еще люди не вернулись с поля, тихо лежало село. Но вечерние длинные, как в старости, тени уже вытягивались над землей. Поглядывая на смирное небо с широкой спокойной полосой заката и пустынную дорогу, Алибаев радовался покою. Хорошо, что покупателей сегодня мало было. Он еще не привык отвешивать, выдавать товар и получать деньги. Это занятье было ему неприятно. Но что же — спорить с Клав-дей, ругаться, очень уж это беспокойно. Да в лавке сидеть неплохо. Прохладно, и мух мало. Задремлешь — в рот не набьются. А дома чуть приткнешься где — мухи и в рот, и в уши, и в нос. Грузен очень стал. Как уснет, вспотеет, жир пот гонит, мухи и облепят, как жирную падаль.