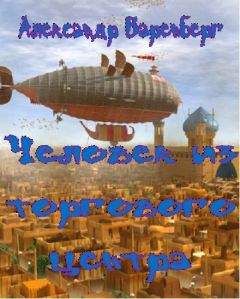Владимир Пистоленко - Товарищи
— Мать.
— А почему вы говорите «мать», а не «мама»?
Лицо Егора стало пунцовым.
— Да… так. товарищ директор.
— Понимаю, — слегка улыбнувшись, сказал Иван Захарович. — «Папа» и «мама» — так говорят только маленькие, а вы уже почти взрослый человек. Стыдновато, правда?
Егор тоже улыбнулся и кивнул головой:
— Правда, товарищ директор.
Лицо Ивана Захаровича стало серьезным и немного грустным. Он опустил руку на плечо Егора, наклонился, стараясь заглянуть ему в глаза, и не спеша заговорил:
— Значит, вы, Бакланов, думаете, что ласковыми могут быть с родителями только малыши. Правда?
Егор чуть заметно пожал плечами, не то соглашаясь с директором, не то возражая ему.
— Да… До обидного некрасиво получается у некоторых людей. Вот смотрите, как оно иногда в жизни бывает. Всем известно, что дети учатся говорить постепенно и любой ребенок сначала произносит одно слово, потом другое, третье и так далее. А знаете, какое слово почти все дети произносят первым? Знаете, Бакланов?
Егор снова пожал плечами.
— «Мама»! Да-да, «мама»!
— Правильно, Иван Захарович, — поддержал Колесова Селезнев. — Я тоже это замечал — и на своих детях и теперь вот на внучатах. «Мама» — первое слово.
— Только так, Дмитрий Гордеевич. Конечно, бывают и исключения, но это частности, не о них я говорю. Так вот. Научился малыш произносить слово «мама», и, пока не вырос, пока он маленький и беззащитный, по всякому жизненному случаю — хочет ли пить или есть, спать или гулять, обидит ли кто-нибудь, — он произносил это магическое слово. На его зов появлялась мать, и все устраивалось как надо. Причем далеко не всегда для матери было легко устранять эти препятствия. Нет, чаще всего — наоборот…
— Вот-вот! И у моей дочери так же, — заговорил вдруг, прервав директора, Селезнев. — Заболел сынишка— воспаление легких, — так она неделю глаз не смыкала. Плохой был. Выходила. Зато сама, поверьте, как сухарь высохла, на себя не стала похожа…
Мастер внезапно замолчал. Собрав в горсть седую бороду, он отошел к тумбочке и начал просматривать лежавшие па ней книги. А Колесов продолжал развивать свою мысль:
— И я об этом же говорю. Немало бессонных ночей приходится матери проводить. Часто только благодари материнскому самопожертвованию малыш остается жить. И вот он растет… Сын! Крепкий, красивый. Он уже сильнее ее. Она смотрит на пего и радуется — какого орла вырастила! Гордится им. Ей хочется пройтись с сыном по улице, чтобы люди порадовались, глядя на них. Но сын не только пройтись с ней стесняется, но даже назвать ее мамой стыдится. А ей больно это, обидно. Она не может понять: почему сыну стыдно назвать ее ласковым словом? Перед кем стыдно?.. Может, и вы стыдитесь, Бакланов?
Иван Захарович ожидал ответа, но Егор опустил глаза и молчал.
— А матери, мне думается, очень тяжело. Очень! — продолжал директор. Он снял руку с плеча Егора и уже другим тоном добавил: —Можете идти, Бакланов. Вы па лекцию?
— На лекцию.
— Теперь она уже скоро кончится. Но — ничего. Хоть часть услышите да ответы на вопросы. А вообще вы все лекции посещаете?
— А как же, товарищ директор! Ни одной не пропустил.
— Бакланов аккуратно ходит на лекции, — подтвердил Селезнев.
— Это хорошо. Ну, а все ли вам понятно, Бакланов, на этих лекциях? Время не пропадает зря?
— Я все понимаю, товарищ директор. Правда, не всегда, а вот когда лектор интересно рассказывает…
— Значит, бывают и непонятные лекции?
— Бывают, товарищ директор. Вот в прошлый раз лектор незнакомые слова какие-то… Ну и непонятно. Приходится догадываться. Что поймешь, а что и нет… У нас ребята любят лекции о международном положении… Это каждому интересно — про войну… Я никогда не пропускал, товарищ директор, вот только сегодня… По случаю посылки. А больше не будет. Можно идти?
— Идите. Да, кстати… Скажите, Бакланов, как вы попали в комнату и кто вас запер? Ведь ключ был у швейцара.
Этого вопроса Егор не ожидал и растерялся.
По правилам внутреннего распорядка в ремесленном училище, на каждую комнату в общежитии полагался один ключ, который должен был находиться или у дежурного коменданта, или у швейцара. Иметь собственные ключи воспитанникам запрещалось. Это правило обсуждали на групповых собраниях учащихся.
— Так что же вы молчите? — спросил Иван Захарович. — Может быть, комната оставалась незапертой? Вы вошли, а комендант не заметил этого и закрыл вас, как в мышеловке?
Конечно, подтвердить такое предположение было бы лучшим выходом для Егора, но ему не хотелось наговаривать на коменданта, который был обязан проверять после ухода ребят, заперты ли двери. Комендант всегда выполнял это очень добросовестно.
Егор взглянул на Гущина. Тот пытливо смотрел на Бакланова, ожидая ответа. Болезненно-бледное лицо коменданта было спокойно.
— Товарищ Гущин, вы проверяли двери?
— Да, Иван Захарович. Когда ребята ушли, двери во всех комнатах были заперты. У меня не было случая, чтобы позабыл, или еще что-нибудь…
— Но как Бакланов попал сюда без ключа?
— У меня… свой ключ, — тихо сказал Егор и протянул ключ директору. — Вот он.
Колесов взял ключ:
— Хороший! Чистая работа. Откуда он у вас?
— Самодельный.
— Кто смастерил?
— Сам.
— Вы же формовщик, а этот ключ, сразу видно, делал слесарь.
— Правильно, Иван Захарович, — подтвердил Гущин. — Конечно, слесарь.
— Нет, не слесарь, я сам сделал. Меня ребята научили слесарничать. Вы не думайте, товарищ директор, что кто-то виноват, я сам сделал. Вот честное слово!
— То, что вы интересуетесь и слесарным делом, похвально. Даже очень похвально. Правильно поступаете. В жизни все пригодится. Но сейчас дело не в этом, а в нарушении правил внутреннего распорядка, в нарушении дисциплины. Понимаете? Придется на вас, Бакланов, наложить взыскание… А у других ребят из вашей комнаты тоже есть ключи?
Бакланов растерялся еще больше и, слегка заикаясь, торопливо ответил:
— Нет, товарищ директор, ключ только у меня. А у… у ребят нет. Я вам точно говорю.
— Ни у кого?
— Ни у кого, товарищ директор.
— Но они знают о вашем ключе?
— Знают… Нет, нет… Не знают… Никто не знает, — отводя взгляд и запинаясь, заговорил Бакланов.
— Как же это получается, — спросил Селезнев, — живете в одной комнате, а друг о дружке не знаете?
— Я им просто не говорил, что у меня есть ключ. Никто не знает, товарищ мастер.
— Ну хорошо. Все понятно. Идите в клуб, — сказал Колесов.
РАЗГОВОР БЕЗ РЕБЯТ
Бакланов вышел. Директор повернулся к Селезневу:
— Дмитрий Гордеевич, Бакланов второй год в вашей группе. Вы, конечно, знаете его лучше, чем любой из нас. Так вот скажите, как по-вашему: правду он говорит или обманывает? Я имею в виду разговор о ключе. Я не верю, чтобы мальчики жили в одной комнате и не знали… Не верю. Похоже, что он лжет. А?
Селезнев не успел ответить.
— Эх, товарищ директор, — сказал Гущин, — ведь Бакланов из мазаевцев, а когда дело касается кого-нибудь из них — трудно разобрать, где правда. Ребята особые — одним словом: и верь и оглядывайся. Да, у них такая дружба, что один другого не подведет. Одним словом, круговая порука. Водой не разлить.
— Иван Захарович, разрешите мне, — вмешался в разговор Батурин.
До сих пор секретарь комитета комсомола молча стоял у окна, прислонившись к стене, и внимательно слушал, поглядывая то на одного, то на другого из собеседников. Был он высок, с широкими, богатырскими плечами. На его крупном, грубоватом лице черная повязка закрывала правый глаз. Стройность и четкость движений выдавали в нем военного. Выглядел Батурин гораздо старше своего возраста: глядя на его седые виски, трудно было поверить, что ему недавно исполнилось всего лишь двадцать три. В училище все знали, что Григорий Иванович был на передовой, командовал стрелковым взводом, потом попал в госпиталь и, выйдя оттуда, пошел работать в ремесленное номер три.
— Я вот что думаю, товарищи. Уж если ключ появился даже у Бакланова, то как хотите, а ключи есть и у всех жильцов комнаты. Заводила в этом деле, конечно, не Бакланов.
— И мне так кажется, — подтвердил Колесов.
— Я уверен в этом. А Бакланов сейчас рассказал то, о чем договорились все четверо.
— Или что приказал говорить Мазай, — подсказал Гущин.
— Правильно, — согласился Батурин. — А вообще, мне кажется, эта восьмая группа должна стать предметом особого разговора.
— Это почему же? — удивился Селезнев. — Почему у вас такое настроение вдруг появилось, товарищ секретарь?
— Мнение о группе у меня сложилось не вдруг, а постепенно. Говорю откровенно — не нравится она мне.
— Аргумент убедительный, — с иронией сказал Се-лезнев. — А мне наоборот — нравится. И все. Да-да, нравится!