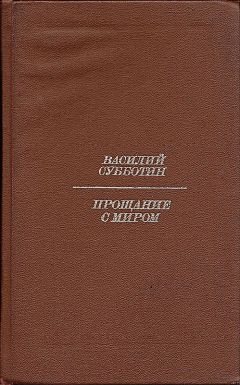Василий Субботин - Прощание с миром
И только теперь, по этому свету внизу, я понял, на какой большой высоте мы летим. Будто я из космоса смотрел.
Мы летели и летели, а под крылом у нас рождались все новые и новые огни.
Это — как зерна жизни, вброшенные во Вселенную.
Мишина, большая, погруженная в темноту, воздушная, плавная, будто рыба, приостановившая свой полет. И эти всплывающие из-под самолета огни.
В этом еще потому было для меня столько таинственности, что никто этого не видел. В самолете горела одна только синяя лампочка. Я сидел, прильнув лицом к стеклу, а вокруг меня все спали.
Я был единственным, кто это видел.
Потом разом все кончилось, и, как раньше, как десять минут назад, настала прежняя плотная мгла, прежняя темнота. И в самолете, и за бортом, за окном. Но потом еще раз, когда самолет развернулся, я увидел это скопление огней. Все такие же яркие, но собранные уже в одном месте.
Как высыпанная на снег горсть углей...
Теперь, однако, этот раскаленный огненный островок как бы взлетел вверх, очутился на темном плато, на высокой горе. Как бы навис над обрывистым берегом и был не под нами, а выше нас... Он словно тонул в снегах. Но, конечно, это только так казалось, что вокруг зыбучие снега. Потому что, конечно же, никаких сугробов еще не было и не могло быть еще. Только так казалось...
Потом уже я сообразил, что самолет наш просто- напросто завалился на крыло и от этого эти снега и эти огни очутились на горе. Когда же самолет выровнялся, опять все стало на место и этот остров огня опять под нами образовался.
Мы летели еще часа полтора, а может, и два, пока не сели в Хабаровске и пока вдали, все еще в темноте, не блеснула река. Амур.
Оказалось — я узнал об этом, когда мы заправлялись,— что этот город в тайге, на равнине, скорее всего,— был Комсомольск.
Комсомольск-на-Амуре.
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
Нам видеть его не пришлось. Мы не застали его. Потом, когда мы выросли, этот человек — не он сам, а его образ — был уже как материк, от которого отплываешь. Чем дальше он, тем величавее.
Но однажды и я увидел его очень близко.
Я услышал один рассказ. Было это уже давно, у нас в институте, в студенческом общежитии. Вечером однажды после лекции мы заговорили о Шушенском.
Все, наверное, знают, что это сибирское старое село, расположенное на берегу Енисея.
Он писал о нем в письме родным, матери. В первые же дни, когда он приехал туда. Писал, успокаивая: «Шу-шу-шу — село недурное... К Енисею прохода нет, но река Шушь течет около самого села... На горизонте — Саянские горы или отроги их; некоторые совсем белые, и снег на них едва ли когда-либо стаивает».
И сравнивал:
«...точь-в-точь как из Женевы можно глядеть на Монблан».
Именно здесь, в Сибири, он тогда, как он уверял, сочинил свою единственную стихотворную строчку:
«В Шуше, у подножия Саяна...»
Дальше у него, по его признанию — не пошло.
Живя здесь, он зимой выходил на реку, катался на коньках и научил этому сельских ребятишек. Охотился. И крепко подружился с одним молодым пареньком, крестьянином, который его очень любил и который принес: ему однажды из лесу журавля.
В Шушенском и до сих пор сохранились многие вещи, которыми он пользовался в ссылке... И стол и конторка. И лампа керосиновая, медная. Говорят, что эту лампу ему привезли из Санкт-Петербурга.
Он усиленно работал здесь, в этой суровой глуши, тут он написал свою большую и очень важную книгу. И потому больше всего нуждался в лампе. Лампу эту ему привезла Надежда Константиновна, так рассказывали.
Товарищ мой, который рассказал мне об этом, и сам был оттуда. Не шушенский, но из Хакассии, из Абакана. Не так все это далеко по сибирским понятиям. Рядом. И в Шушенском мой
товарищ сам часто бывал.
Собственно, это как мимическая сценка.
Он и Крупская идут рядом. Кажется, идут даже не по улице, а по крутому, по высокому берегу реки, где по весне у них всегда многолюдно, всегда собирается народ.
Они идут вдвоем.
Он в своем единственном, памятном нам пальтеце. А на Крупской — круглая шапочка, а из-под пальто — до самых ботинок — черная юбка.
Он бережно ведет жену под руку. Эго настолько непривычно всем, что это-то крестьянам и запечатлелось более всего.
Но главное, что еще запечатлелось им: ведя жену так вот, под руку, оп, повернув голову к ней, все время говорит о чем-то. Говорит и жестикулирует сжатой рукой.
Это — как в немом кино. Слов не слышно, только движение...
По-видимому, он только что оторвался от рукописи. Вроде' бы кому-то доказывает свою правоту. С кем-то еще продолжает спорить.
Мне очень дорого это воспоминание.
И я особенно берегу его.
...И еще одни такой рассказ небольшой, тоже сибирский, тоже тушинский.
Одни старик — это уже после революции было в скором времени — пришел из Шушенского в волость. Шапку снял и в угол глядит, удивился. Человек на портрете больно знакомый. Одет в пиджак черный. Бородка такая у него, клинышком. Взгляд уж больно знакомый! Кто это такой?
Председатель объясняет ему кто.
А старик ему:
— Прокоп! Так ведь эго тот самый мужик... Что у нас тут в Шушенском жил!
Вот — все. Может быть, все это не столь значительно? Да, вероятно, это так. Но все же эти два или три случайных штриха
помогли мне увидеть его...
Таким оп и у меня в памяти жив. Ленин, увиденный глазами шушенцев.
ДЕД ОЛЕНЧУК
Он жил где-то рядом, па Сиваше, мне страстно хотелось повидать его, я все собирался каждый год съездить к нему, да так и не собрался.
Не помню уж, право, когда я и норный раз о нем услышал, но думаю, что о детства это я знал о нем.
Он уже и тогда был дедом...
Это в 1920 году было, когда из Крыма Врангеля выбивали, когда брали Перекоп. Этот самый Оленчук перевел Красную, рабоче-крестьянскую нашу армию через Сиваш.
Он самому Фрунзе показывал, где надо переходить.
Я даже и снимок такой помню: Иван Иванович Оленчук показывает рукой через Сиваш.
Нам про этого деда отцы рассказывали, когда мы были маленькими.
Все я хотел до него добраться... Я и сам теперь жил в Крыму, а дед Оленчук, второй уже раз к этому времени проведший войска наши через Сиваш, жил там же, где жил всегда, и до него было недалеко — всего было и езды-то часов десять.
Друг моей юности, я его еще по дивизии знал, заезжал к Оленчуку, знаком был с ним. Рыбак Оленчук жил у себя в Строгановке, на той стороне Сивашей.
Да, так вот вышло: мы выросли, мы сами стали солдатами, а дед Оленчук словно бы и не старился, все так же рыбачил он, когда одной осенней ночью в 1943 году, такой же, как та, двадцать три года назад, опять разведывал брод через Сиваш.
Дед Оленчук жил одиноко, гордо. В самодельной хате на крюке висел у него один только старый кожушок...
Таким был этот старик, что дважды перевел нашу Красную армию через Сиваш — в первый раз в гражданскую войну, а во
второй раз в эту, в Отечественную.
Но все-таки я его, деда этого, помню. Ради этого все и рассказываю...
Я его тоже видел.
А вышло это так. Я шел летом по улице, в Симферополе когда жил. Жара как раз самая стояла. Подвигается, я вижу, навстречу мне человек... С палочкой, в ватничке. Я смотрю: да это ж дед Оленчук идет! Я его в лицо узнал. По бороде.
На голове шапка солдатская старая, постолы на ногах... Под пиджачком у него или под ватничком толком не разглядел — тоже надета гимнастерки солдатская.
Будто по бережку идет, рыбацкой этакой валкой походочкой. Как в Симферополе не ходят.
Оглядываюсь, а он уже прошел.
Так и я его увидел... Все-таки привелось. Я потом спрашивал у моего друга и узнал: дед Оленчук был у нас в Симферополе и заходил к нему в этот день.
Вскоре после того, как передавали, старик умер.
ЦАРЬ СКИЛУР
Эти преславные изображения видел я в учебнике истории. Там был изображен старик в профиль. Лицо у него было резкое, сильное, с большим, остро выступившим вперед клипом бороды.
Одна только голова и плечи. Голова бородатого скифа в высокой остроконечной шапке. А рядом было другое лицо, безволосое и бабы;.
Я позднее узнал, как нашли этот профиль. Какой- то мужик, нагрузив на отвалах камень, вез его в город домой. Один из встреченных им жителей выпросил его себе. Он у него прямо с телеги этот камень снял. Поначалу был найден известняковый рельеф с изображенном всадника, а затем уж обломки мраморного рельефа плиты с рельефами скифских царей. Всадник в старославянском или скифском башлыке, в остроконечной шапке. Это и был Скилур, портрет скифского царя Скилура и его сына Палака. Скифский царь, как в буденовке, в островерхом скифском башлыке.