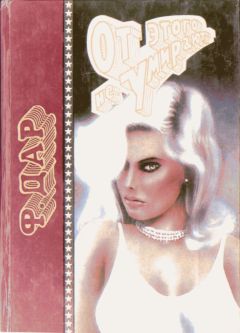Владимир Некляев - Возвращение Веры
— Такими же лучшими засранцами?..
— Такими же лучшими засранцами…
— Такими кончеными засранцами, которые даже не заподозрят, что я — это не ты?..
— Они не заподозрят, но…
— Они не заподозрят, но что?..
— Но ты в репортаже скажешь, что, пока они свадьбы играют и мягкой бумагой задницы подтирают, у вас людей убивают…
— Как котов?..
— Как котов…
— Как мой муж убил?..
— Не твой, а мой…
— Мой тоже убил…
— Твой тоже убил?..
— Как и твой… Как и все они…
— Потому что везде без разницы?..
— Потому что везде без разницы…
— Ты про это можешь сказать…
— Скажу…
— А потом признаешься, что ты это не я, а ты это ты — вот будет бомба! Бабахнет, как перед концом света, — и пусть попробуют не услышать, что живе Беларусь!..
Мы скатились с кровати, грохнулись, Вера под меня — затылком об пол. На мгновение она обмякла. Может, даже потеряла сознание, но как будто не заметила, что какой–то миг ее здесь не было. Открыла глаза:
— Как тебе такое?..
Так она не заметила бы, что ее совсем нет.
Нечего бояться.
Нечего откладывать на потом.
Поднявшись, я подала ей руку:
— Никак. Но повеселились, как перед концом света.
Отец спрашивал: «Доченька, тебе там не говорили: конец света — это конец света и того, или только этого? Если только этого, то тогда какой же конец? Неувязка какая–то…»
И все едино: смертный ты
Или бессмертный —
Ты звездный ветер пустоты,
Дым предрассветный.
И сам себе посмотришь вслед,
Чтоб что–то в памяти оставить,
Но только ничего там нет,
И стала ветром с дымом — память.
Со светом мертвым иль живым
Знай, что на всяком свете
Есть только предрассветный дым
И звездный ветер.
— И еще повеселимся, у меня такое есть!.. — Вера порылась в сумке, достала баночку с пудрой. — Вот! Пудра для полетов… Русские стали к нам возить, у них не все плохое. Синтезировали что–то так, что кайф дает — куда там экстази! Причем невозможно определить, что это наркотик. Ни когда он в баночке, ни когда в тебе. — Она открыла баночку, достала из нее вату, из–под ваты две таблетки. — А сильный такой, сильнее чем «белый китаец», надо с дозой аккуратно. На полтаблетки… Или для начала четверть… Знаешь, как таблетка называется? Кремлевская… Кто–то с юмором, правда?.. Но Кремль увидишь, гарантирую. И гимн Советского Союза услышишь. Так они наркоту свою закодировали, кагэбисты…
Для шведов, немцев, канадцев, англичан, для них всех во всем бывшем Советском Союзе до сих пор живут только те, кто сидел, и те, кто сажал. Лагерники и кагэбисты. Как только с Запада кто–нибудь в Минск приедет — так около здания КГБ сразу фотографироваться. И все оглядывается: не заберут ли? Если не его, так фотоаппарат.
Святослав однажды поспорил со мной, подошел к супружеской паре англичан, козырнул: «Майор комитета Государственной безопасности Берия! Фотографировать запрещено. Пожалуйста, ваш аппаратик». Отдали, не пикнули…
Я не ожидала такого, кричать стала: «Как ты мог аппарат забрать?..» — а он засмеялся: «Адреналин дороже стоит. А я сколько адреналина им вогнал?..»
— Мне не надо, Вера.
— Гимн Советского Союза не любишь?.. — Вера разломила таблетку пополам, половину еще пополам. — Из четвертинки — гимн в сокращенном варианте и без слов…
Себе она взяла целую таблетку, немного подумала — и добавила еще четверть. Запила вином, стакан выпила…
— Не тяни, надо вместе. А то разминемся в полетах…
Если добирать жизни, то не четвертинку, а все, что осталось.
И запить вином.
И в Кремль…
И слушать… имн оветско юза… …который стал заикаться, как будто пластинку заело, и на шестом или седьмом заикании музыка вдруг изменилась, зазвучала другая мелодия, тоже гимновая, но не советская, и не французская или американская, не европейская и не африканская, а какая–то всемирная, которую пел кто–то на небесах — Бог, или кто?.. и Бог сказал, не переставая петь: «Я, кому еще на небесах петь?..» — и голос Его вошел в меня сладко–сладко, потому что я поверила, что Он есть, поет, и ему аккомпанируют ангелы, на арфах играют и на скрипках, на кларнетах и окаринах, но возникает эта мелодия сначала во мне, а потом уже ее поет Бог и играют ангелы, которые сами удивляются, что есть такая музыка, торжественная и разноцветная, как радуга, через которую мы увиделись с Верой около фонтана, и теперь она цветами и звуками наполняет темный и пустой космос, веет над огромным — подо всем небом — стадионом, где я стою на пьедестале, одна, на месте чемпионов, а по стадионной дорожке, которую и дорожкой не назвать, потому что она шире и длинней любой дороги, бегут и бегут люди, множество людей не только белых, черных и желтых, но и красных, синих, зеленых, как будто все они пробежали через радугу, каждый через свой цвет, и они уже заканчивают круг, я боюсь, что их не догоню, а Бог говорит, не переставая петь: «Тебе не надо догонять, ты и так первая», — только мне кажется, что Он лукавит, сначала все–таки надо победить, а потом уже становиться на пьедестал, с которого я не могу сойти, потому что он слишком высокий, до самых облаков, а Бог снова говорит, не переставая петь: «Ты вспомни, что умеешь летать», — и я полетела, о, как сладко и высоко, выше и еще слаще, еще выше и слаще, еще и еще, о, и сердце останавливается, не может вынести этой радости, но должно выдержать, оно мне необходимо, чтобы бежать, потому что они там, внизу, уже добегают первый круг, я спускаюсь и бегу, отстав на круг, впереди всех, и по всему стадиону, которому конца и края не видно, нараспев катится: «Бе–ла–русь! Бе–ла–русь! Бе–ла–русь!» — и так хорошо от этого слова, хоть Вера и говорила, что не будет слов, оно ложится на всемирную мелодию, которую играют ангелы и поет Бог, который вдруг замолкает и смотрит на меня тотально–одиноко, о как одиноко, до остановки сердца, которое не может выдержать такого тотального одиночества, но оно мне необходимо, потому что уже близко финиш, вот он, и я первая, о, какая радость быть первой, и ее столько, что грудь переполняет, сердце разрывается, оно не может выдержать этой радости, но должно выдержать, оно мне необходимо, чтобы вынести горе, невыносимое горе, потому что все кричат: «Бе–ла–русь! Бе–ла–русь! Бе–ла–русь!» — а Бог говорит: «Нет, она не первая, ей бежать еще круг», — и с Богом не поспоришь, бежишь, бежишь и бежишь, задыхаешься, задыхаешься, задыхаешься и от того, что воздуха не хватает, и от страха, потому что впереди яма чернеет, которую выкопал Змей и куда дорожка, как лента, соскальзывает, падает и тащит за собой в пасть Кита, в черноту, в пустоту, откуда отец спрашивает: «Доченька, скажи, это уже тот свет или еще этот?» — а что мне сказать, если я сама не знаю, и так стыдно, о, как стыдно, что даже сейчас, когда отца уже нет, ничего хорошего сказать ему не могу, ничем не могу помочь, как и Святославу ничего хорошего не сказала и ничем помочь не смогла, и из–за этого стыдно и больно, так больно и стыдно, что сердце может не выдержать, и оно не выдерживает, останавливается, «тук–тук» предпоследний раз и еще «тук…», последний, я уже не дышу, но отец, который тоже умер от сердца, знает, как не дать ему остановиться, сжимает и отпускает мне грудь, сжимает и отпускает, и выталкивает из пустой темноты вверх, вверх, вверх, где мне немного легче, где все больше и больше цветов и звуков, к которым я выбираюсь через такую узкую щель, через которую выбраться может только совсем маленькая девочка, маленькая, но ведь не мертвая, и снова слышу музыку… имн… оветско… юза… и ах! — хватаю воздух, но вздохнуть полной грудью еще не могу, что–то сверху меня душит, Змей глубже подкопал яму и свалил в нее валун, который лег плашмя… Господи!.. — это Вера лежит на мне губы в губы и не двигается…
Сразу я даже не испугалась. Подумала: если я умею жить и в себе, и в других, переселяться и возвращаться, то почему она, такая же, как я, не умеет?.. Тем более что она уже умирала когда–то и возвращалась из себя мертвой в себя живую, выбиралась из–под камня через маленькую щель…
Вера лежала на мне, как раздавленная.
Я выбралась из–под нее, перевернула на спину, затрясла, как куклу: «Вера! Ты где, Вера? Что с тобой, Вера? Вернись!..»
Она не возвращалась. Переселилась куда–то навсегда.
Схватив телефон, я машинально набрала номер, услышала в трубке: «Скорая помощь», — и положила трубку.
Если в моей квартире найдут шведскую журналистку, которая нелегально приехала в Беларусь и умерла от передозировки, то не найдется такой «скорой», которая бы мне помогла.
Я залезла в сумочку Веры, нашла паспорт. Виза в паспорте только российская.
Наркоманка и нелегалка… Лесбиянка — не в счет. Но, когда начнут раскручивать, то и это засчитают.
Около меня загорелось ржаное поле…