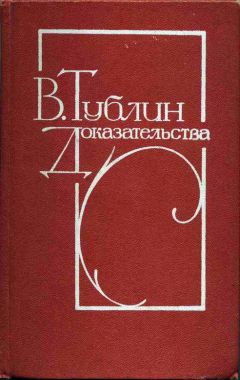Валентин Тублин - Доказательства: Повести
Потому что она меня считает совсем маленьким. А самой-то всего на три года больше. Восемнадцать лет — подумаешь, какая большая. Но она совсем большая, что правда, то правда. И не только потому, что она ростом метр семьдесят четыре, нет — она просто совсем большая, и может даже выйти замуж, хотя не понимаю, чем тут можно гордиться. Но она, по-моему, гордится. Даже спросила меня как-то — выйти ей замуж или нет. За курсанта. Да, ей тут один морячок покоя не дает, вечно обрывает телефон. Смешной такой — на полголовы ее ниже. Тоже мне, жених! Дурак, наверное, — жил бы себе тихо, плавал бы под водой. А то женится еще, а она, Катя, назовет при ком-нибудь из его начальства Тициана — Птицианом (так было один раз тоже). И что? Разжалуют этого морячка за то, что жену не воспитывает, пострадает ни за что. Вот хотя бы для этого Катя позанималась бы немного, я бы ей все показал, водил бы ее по Эрмитажу до самой свадьбы. Но она меня смутила этим своим — а зачем? Правда, смутила. Я-то думал, что знать все это — просто нужно, как уметь писать и читать. Зачем? Но ей вроде бы и незачем. Особенно теперь, летом, когда она день и ночь пропадает на своих тренировках. Гребла, как бешеная. И вот теперь — чемпионка Европы. «Птициан»! Это ж надо придумать. А теперь вот — Эврисфей, которого она приняла за Тимофея. Он ей тоже, конечно, был не нужен. Раз она чемпион. Вот радости-то в клубе! «Теперь ей наверняка скоро дадут свою комнату, — подумал я. — А то и отдельную квартиру». И правильно. Конечно, ей нужна квартира, а то она стесняется приводить сюда своего моряка. Но он все равно приходил: встанет у дверей — и ждет, дожидается, пока она случайно выйдет. По-моему, он проводит на нашей лестничной площадке все свои увольнительные часы — или как там у них это называется. По-моему, он просто обалдел от нашей Кати, а та делает вид, что ей хоть бы что. Я один раз вышел мусор выбросить, а он стоит. Синяя форма, палаш сбоку. Стоит, наверное, с незапамятных времен. И курит — дым столбом, наверное, десятую пачку докуривает, если бы мимо ехали пожарники, точно кинулись бы со своими лестницами к нам на пятый этаж — тушить. Столько дыма было. Жалко мне его стало — не могу сказать как. Я на него смотрю, а он будто случайно оказался у наших дверей, даже вида не подает. Не спрашивает ничего, только дымит. Мне его жалко стало — сил нет.
— Если вы к Кате, — говорю, — то ее нет дома.
Но он молчит. Мне кажется, что он мне не верил. Только потом я понял, что не в этом дело. Может быть, верил, может, нет, но дело не в этом. Вы понимаете? Эта дурацкая мысль пришла мне в голову только-только. Знаете, что за мысль? Держитесь крепче. Ему было все равно. Да. Не верите? Но это правда. Ему было все равно, дома она или нет. То есть если бы она была дома, ему было бы, наверное, приятнее, но если нет — то ему все равно было хорошо. Жаль, что я поздно это понял. А тогда я подумал, что он мне не верит. А может быть, думает, что это Катя попросила меня так сказать. Только я повторяю: ему было все равно. Вот почему он не сказал ни слова — только задымил еще сильнее. Весь окутался дымом, как вулкан. Я, правда, никогда не видел вулкана, окутанного дымом, но читал — много. Про извержение Везувия, например.
Или Кракатау… Стоит — и дымится. И, как я теперь понял, ему было, в общем, совсем неплохо. Теперь я верю, я даже знаю, что так оно и бывает. То есть я не хочу сказать, что мне самому приходилось стоять у кого-нибудь под дверью. Вовсе нет. Но представить это я могу. Могу представить себе, например, что мне понравилась какая-нибудь девчонка и мне надо пригласить ее куда-нибудь. И вот я вполне могу представить, как стоял бы под дверью и ждал, пока она выйдет. Ну, может, не под дверью, а во дворе — должен же человек за целый день выйти из дома.
Взять хотя бы Наташку Степанову. Та, например, каждый час выбегает на улицу. Сколько бы я ни проходил мимо их дома, совершенно случайно, стоило только замедлить шаг или подождать десяток минут — обязательно на нее наткнешься. И обязательно в сопровождении. Обязательно ее провожает какой-нибудь верзила из десятиклассников, тащит, пижон, ее портфель и от счастья сияет. Сколько раз я такое видел — даже уже и не вспомнить. Да ни разу я не видел, чтобы она шла одна. Из школы. И не из школы тоже. А ведь она всего в восьмом классе, как и все мы. Поразительный факт, если задуматься. А если задуматься чуть подольше, то и нет. Не поразительный. Если вспомнить как следует, то какую красивую девчонку ни возьми, картина одна и та же: вечно вокруг них тучи поклонников. Даже противно. Вот уж чего не стал бы никогда делать. Не стал бы толпиться вместе со всеми и ждать, пока придет твоя очередь нести портфель. Не стал бы я этого делать, даже если бы девчонка эта мне и нравилась. Зачем?
Но сам по себе… Сам по себе — чувствую — мог бы стоять во дворе или даже на площадке, как тот морячок. Один. А что? Может человек стоять, где ему нравится, или не может? Ну и стоит.
Только мне его все равно жалко было. Даже если для него и на самом деле безразлично было — дома Катя или нет. Я ему говорю:
— Да вы пройдите. Она еще не скоро придет. Вы же, — говорю, — знаете, она на тренировке. Придет поздно вечером.
А он:
— Ничего, — говорит. — Спасибо. Я постою здесь.
Вы поняли? Гордый. Ну, его дело. Мне что, просить его надо, что ли? Упрашивать? К тому же я тогда не понимал еще многого. Не понимал еще, например, что человеку, может, и не обязательно видеть другого человека. Что ему, может быть, просто приятно стоять у ее двери. Стоять — и больше ничего.
Выхожу через час — стоит. И больше не курит. И грустный такой. Я, говорю, тогда еще не понимал ничего, — того, что я сейчас понимаю, и даже злорадно как-то подумал: «Охота тебе стоять здесь? Зачем тебе эта Катя нужна? Что ты в ней такого нашел? Ну, хорошенькая она, даже очень пусть хорошенькая, но ведь она такая большая. Ведь рядом, наверное, идти неудобно с девушкой, которая на полголовы выше тебя, тем более военному… Да еще с палашом».
Но я не сказал ему, конечно, ничего. Не мое это дело. Я только еще раз предложил ему зайти к нам. Подождать. А он снова отказался. Я тогда говорю: «Может, стул, — говорю, — вынести? Все-таки сидеть удобней, чем стоять». А он говорит: «Нет, — говорит, — спасибо, не надо». Я тогда другое: «Может, — говорю, — вы в шахматы играете? Или в шашки? Или еще во что? Так давайте, я доску вынесу — и сыграем здесь, на подоконнике, если уж вы не хотите войти. А?»
Я это так сказал — просто. Даже мне стало неудобно — стоит человек и стоит. А он вдруг оживился и говорит:
— Вы умеете играть в шахматы?
Вроде бы даже удивился. Но потом все выяснилось. Я-то умею играть в шахматы, в интернате, будь он неладен, научился. Там и не такому можно было научиться… Но не об этом речь. Мне после первых дебютных ходов стало ясно, что он имел в виду. Он имел в виду настоящее умение. Потому что сам он играть умел. Клянусь, у него был разряд не ниже первого. А может, и повыше. А у меня — только третий. Да и то, если уж честно говорить, весьма условный третий, нам эти разряды еще в интернате оформили.
Мой третий разряд, хотя он и не был липовым, стоил немного. Но достаточно, чтобы я мог понять, как играет этот морячок. Он мог играть со мной, как говорится, одной левой. Я не понял даже, как это произошло, но буквально после первых же ходов мне стало ужасно неудобно — я говорю про позицию, которая создалась на доске. Это как если бы вас заставили натянуть на себя детский костюмчик, номеров на десять меньше вашего. Тут жмет, там тянет, и ни пошевелиться, ни вздохнуть. Абсолютно то же самое получилось и с моей позицией. Еще все фигуры были на доске, все до единой, еще и игра, собственно говоря, не началась, а ходить мне уже было некуда. Так что, хочешь не хочешь, пришлось сначала отдать ему одну пешку, потом другую, а потом и фигуру. Нет, он и в самом деле понимал в шахматах. Потому что я ему сказал — может, еще одну? Сгоряча. Ведь, может быть, подумал я, это произошло случайно. Ведь могло и так быть, мало ли, я не разобрался, ведь третий-то разряд у меня все-таки был. Короче, мне просто стало обидно, что я так бездарно проиграл, поэтому я и предложил ему еще одну партию. Я даже начал по-другому. На этот раз я играл белыми, и какое-то преимущество это давало.
Да, теоретически. Только на практике оказалось совсем не так. На практике все совершенно повторилось. К десятому ходу мне буквально было некуда ходить, так что на этот раз мне даже и жертвовать ему ничего не пришлось, я и без того понял, что партия проиграна. Вот тогда-то я и спросил его, какой у него разряд. Но он не сказал. Он, видите ли, оказался не только гордым, но еще и скромным. Я у него еще раз пятьсот, наверное, спрашивал, какой у него разряд, а он и ухом не ведет. Ужасно я тогда расстроился. Он, похоже, до того тогда заждался на площадке, что рад был играть даже со мной. Только я не стал с ним больше играть. Поблагодарил и ушел.
А через час он сам позвонил. Я открываю. Он, вижу, совсем унылый. Но держится.