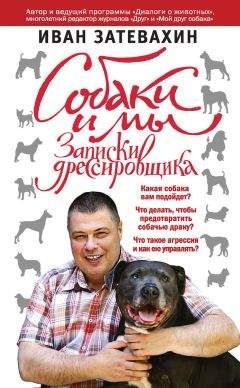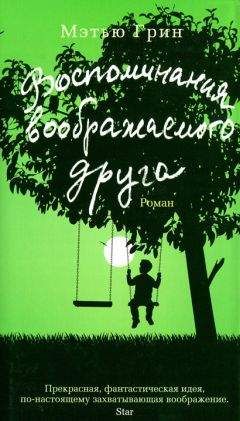Иван Давидков - Прощай, Акрополь!
Пока было светло, тараканы сидели по темным укромным местам или прятались между страницами учебников и тетрадок, а ночью, когда смолкали шаги и лишь из пекарни доносился стук лопаты, сажающей хлеб в горящую печь, — лопата подрагивала в руках Катерины, помогая сырым караваям съехать на раскаленный под и улечься бок о бок со своими уже румянящимися собратьями, — они пускались в свой ночной поход. Они завладевали комнатами и коридорами, поднимались по лестнице и стенам, облепляли электрические провода, раскачивая их своим стремительным бегом, копошились в пустых мешках, сшитых из грубой оберточной бумаги, которые Катерина сваливала у входа в коридор, шуршали так монотонно и настырно, что я просыпался.
«На рассвете придет хозяин и начнется ваша трагедия», — думал я и осторожно переворачивался на другой бок, чтобы ненароком не раздавить какого–нибудь забравшегося в кровать наглеца.
И вот к пяти часам утра, когда в темном доме начинало попахивать дымом и снизу доносилось приятное потрескивание огня (эти звуки заставляли меня реально ощущать тепло далекого пламени), на лестнице раздавался скрип сонных шагов, гулко звякала ручка пустого ведра, хрустели мешки в руках хозяина и по коридору разносился полный злорадства голос:
— Как бы вы, милые, ни драпали, метла все равно вас догонит!
Она действительно их догоняла, корябая по полу; я слышал бренчание жестяного совка и понимал, что, вытряхнув тараканов из мешка в ведро, хозяин теперь сметает тех, кто попытался укрыться в щелях закопченного дома, пропитавшегося запахом квашни.
Печь пылала. Хозяин заглядывал в покрытое сажей отверстие, чтобы убедиться, все ли поленья занялись, и ворошил длинным железным прутом те, что дымились. Когда наконец весь печной купол начинал качаться от карабкающихся по нему бликов, он расчищал лопатой небольшую площадку в центре. Став неожиданно уверенным и властным, он приступал к делу.
Взяв из ведра, покрытого крышкой от кастрюли, пригоршню тараканов, он утрясал их в кулаке, словно ему приятно было чувствовать их щекочущее копошение, и, резко размахнувшись, швырял их на маленькую арену, расчищенную среди головней, покрытых коротким синим пламенем. Коричневые захватчики старого дома на мгновение замирали, словно соображая, что бы им предпринять, но раскаленный под не давал им времени на размышление, и они сначала сбивались в кучу, а потом, приплясывая — кирпич немилосердно жег, — направлялись по огражденной углями дорожке к выходу, туда, где за рыжими бачками хозяина было, как им казалось, спасение. Но он, приняв на ладонь только одного из обезумевших танцоров, беспощадно возвращал остальных к пылающему огню. Они выделывали еще несколько коленец, уменьшались в размере и, лопнув, исчезали.
Раскрыв ладонь, хозяин смотрел на испуганную тварь, выпускал ее осторожно на стол и говорил:
— А тебе суждено было остаться в живых. Проваливай…
Сейчас, пока не рассвело и Катерина еще спала, он был полновластным хозяином своего дома, мог быть жестоким и мстительным, но мог и великодушно прощать.
Вскоре на лестнице раздавалось покашливание: это спускалась Катерина, на ходу сонными пальцами пытаясь застегнуть блузку, пожелтевшую от муки и пота. Пальцы ее не слушались, и пуговица в том месте, где высокая грудь натягивала выношенный ситец, то и дело выскальзывала из рваной петли. Это покашливание заставляло хозяина отойти в угол и покорно ждать, когда жена отрывистым голосом отдаст распоряжение; оно означало, что начался длинный, трудный день.
Когда умер мой дед, два дня лил тяжелый, оглушительный дождь. Два дня старика не могли похоронить. Черепица на крыше скрипела и прогибалась под напором струй толщиной с канаты. Подвал залило. Вода бурлила, в ней крутились старые метлы и насест с примятой соломой, плавали рваные кепки с прибившейся ржавой пеной. За окном нельзя было различить ни домов, ни улиц. Люди словно ослепли и обо всем, что творится вокруг, догадывались по звукам, которые носились над, казалось, потонувшим миром. Сквозь серую завесу дождя до нас долетало мычание испуганной скотины, треск вывороченных с корнем деревьев, клокотание воды, превратившей улицы в реки.
Как только дождь стал стихать, со стороны долины послышались голоса и позвякивание козьих колокольцев, залаяли собаки. Вот метнулся свет фонаря и, качаясь, стал приближаться к дому.
— Держи козленка, а то унесет! — крикнул кто–то, и по донесшемуся с улицы скрипу я понял, что отворяют Ваши ворота.
Двор наполнился блеянием и мутным пятном овечьих спин — пятно стало уменьшаться и совсем исчезло, когда стадо загнали в хлев.
Это крестьяне, жившие в нижнем конце села, у реки, искали прибежища в домах, стоящих на холме. Их пугала быстро прибывающая вода.
На другой день после похорон я возвращался в город.
Я шел по грязной раскисшей дороге, блестевшей среди мокрых полей. Ноги чуть не по колено увязали в липкой глине. Казалось, что вся земля, до самой сердцевины, размякла и ждет великана, который размял бы ее в своих могучих руках и очистил от бедности и страданий, как гончары очищают кусок глины от камешков, корней и травинок, прежде чем придать ему форму, превратить в поющий сосуд.
Когда я поднялся на вершину холма и глянул на поречье Огосты, у меня закружилась голова, а от шума, идущего от реки, чуть не подкосились ноги. Я увидел стену мутно–бурой, красноватой воды, вода пенилась на гребне и была выше нашего дома. Угрожающе накатывая волной, она сметала все на своем пути. В ней бултыхались огромные стволы вывороченных деревьев, показывая то корни, то покореженные ветви, стремительно скользя, неслись доски. Я увидел в реке воловью упряжку. Волы пытались выкарабкаться на берег, но огромная волна настигла их на середине бывшего брода и подняла телегу. Испуганные животные задрали головы, их красивые витые рога разрезали воду лишь короткий миг, пока ярмо не развернулось и не вытолкнуло дышло, — они закружились в водовороте и исчезли навсегда.
Тревожно зазвонил колокол нашей церкви. Над дорогой висели сорванные телефонные провода, Но, видно, кто–то все же сумел предупредить села о близящемся наводнении. Отозвался колокол в Горовцах. Минуту спустя уже слышался звон с колокольни в Малой Кутловице — в этом звоне было больше любопытства, чем тревоги. Забили два колокола за Веренишским перевалом. Сельские колокола искали друг друга и с трудом находили; глухо грохочущая река подхватывала их голоса, крутила вместе с вывороченными деревьями и топила в своих водовертях, но они выныривали, стряхивали грязную воду и снова устремлялись в небо, чтобы придать жуткую торжественность всему происходящему…
А по другую сторону холма под бугорком белесой землицы лежал мой дед. Я прожил с ним долгие годы и потому надеялся, что память моя навсегда сохранит каждую морщинку его лица, каждую складочку его одежды. Сейчас я понял, что память моя хранит только улыбку старика…
Она появлялась на его почти всегда задумчивом, бледном лице, как луч, внезапно прокравшийся из–за облака, и заставляла реденькие усы шевелиться и топорщиться. Глаза его при этом слегка щурились, кожа собиралась в морщинки, которые расходились к широким татарским скулам, а сквозь щелки век лился нежный, золотистый свет его взгляда. Этот свет — а может быть, то был просто отблеск окна — падал на лежащие на коленях большие кисти рук. Вены и сухожилия становились еще выпуклей, и я пытался по цвету пальцев, по их трещинам и ссадинам угадать цвет земли тех низин и склонов, где дед мой пахал и сеял. Этот цвет, в котором был оттенок глины, отавы и жнивья, его руки носили всю жизнь, и сколько бы он ни старался — я видел, как дед тер их песком, — он никак не мог его смыть. Дед участвовал в трех войнах. Ему приходилось переползать через стоявшие коробом, замерзшие шинели убитых товарищей при Булаире и Чаталдже. Он лежал тяжелораненый у Дойрана, и озеро, отражавшее горящий город, смешивало красные отблески с его красной кровью… Но к цвету его рук не пристал медный блеск патронов и гаубичных гильз. В них была одна только могучая власть земли.
Он был грешным человеком. Радовался вину, позволял своей руке закатить пощечину подлецу, любил крепкое словцо. Охоч он был и до чужих баб, по ночам, в глухой час, шлялся под чужими воротами, бросал бобовые зерна в окно той, что, наспех накинув одежонку (случалось, то была рубаха мужа, уехавшего на мельницу), бежала с ним под предательский лай собак, чтобы подарить ему свою любовь где–нибудь за околицей под старым орехом или здесь же у плетня, который скрипел от их жарких ласк.
Это был грешный человек, но в делах его было что–то возвышенное. Он не отрекся ни от чего земного: безропотно прошел через страдания и не шалел от радости, ибо знал, что все в жизни мимолетно.
Мой дед лежал теперь под белесым бугорком земли по ту сторону холма. Ничего не слышал, ни о чем не тревожился. А над ним, скользя в мокром воздухе, носился звон колоколов всего поречья. Река тщетно пыталась его заглушить. Одолев ее, он торжествовал в непогожем небе.