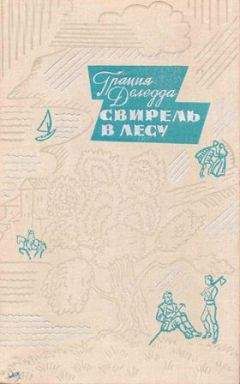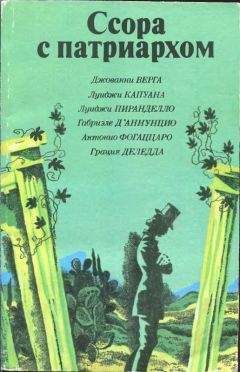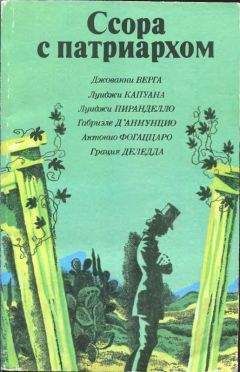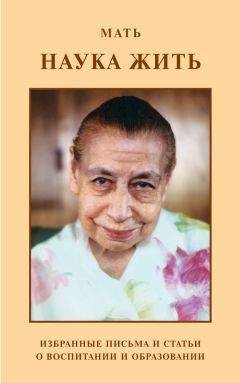Грация Деледда - Мать
Совесть, однако, шептала ему: «Они празднуют свою веру, празднуют бога в тебе. И ты, ничтожество, не имеешь права вставать между ними и богом».
Но какой-то другой голос, из еще более дальней глубины совести, говорил ему: «Нет, дело не в этом. Дело в том, что ты трус. Боишься страданий, боишься и вправду сгореть».
И по мере того как они приближались к селу, к людям, он чувствовал себя, как никогда, растерянным. Что делать? Ему казалось, что эти тени и свет от костров на скале, озаряющий все вокруг, каждый камень, каждый стебель, рождены были его совестью. Но какова же истина — тень или свет?
Он вспомнил, как приехал в село много лет назад. Мать с волнением следовала за ним, как следуют за ребенком, который делает первые шаги.
«И я упал перед ней… И она думает, что подняла меня, но я смертельно ранен. Боже мой, боже мой…»
И вдруг он почувствовал облегчение при мысли, что этот неожиданный праздник отвлекал его от мучений, быть может даже от опасности…
«Приглашу я их к себе домой, и пройдет вечер… Будет уже поздно… Если минет эта ночь, я спасен».
Уже можно было различить наверху, на площади, черные пятна беретов[3] и огни по сторонам церквушки, которые трепетали, словно красные знамена. Колокола не звонили, как в день его приезда, но фисгармония как бы вторила своим печальным звуком колыхавшемуся вокруг свету.
И вдруг над колокольней взвилась серебряная звезда, которая тут же рассыпалась и растворилась во тьме, сопровождаемая выстрелом, прогремевшим на всю долину. Раздался радостный крик, а потом последовали новые вспышки и выстрелы. Стреляли, выражая ликование, как во время торжественного праздника.
— Они с ума посходили все! — воскликнул стражник. И пустился бегом вместе с мрачно лаявшей собакой, словно там наверху вспыхнуло восстание, которое нужно было подавить.
Антиоко же хотелось плакать. Он смотрел на священника, возвышавшегося на лошади, — черный силуэт всадника на ярком фоне огней, и ему казалось, что это святой, возглавляющий процессию.
«Моя матушка сегодня хорошо заработает на всем этом веселье», — между тем подумал он. И вдруг почувствовал себя таким счастливым, что развернул свой плащ, накинул его на плечи, потом взял у священника ящичек, но палку не бросил. Так и вошел в село, подобно одному из волхвов.
Внучка старого охотника окликнула священника с порога своего дома и спросила, что слышно про деда.
— Все в порядке.
— Значит, ему лучше?
— Твой дед уже умер.
Она вскрикнула, и это была единственная звучащая диссонансом нота во всем празднике.
Мальчишки уже помчались навстречу священнику. Они окружили лошадь, словно рой мух, — так с этим эскортом он и поднялся на площадь. А народу было не так уж и много, как представлялось издали: это тени умножали число людей. Появление стражника с собакой внесло некоторый порядок. Мужчины держались у ограды, под деревьями, освещаемыми огнями, некоторые пили возле маленькой остерии, принадлежавшей матери Антиоко. Женщины с уснувшими на руках детьми сидели на ступеньках церкви, окружив Нину Мазию, спокойную, точно сонная кошка.
Стражник с собакой, застывший посреди площади, походил на монумент.
При появлении священника все устремились к нему. Однако лошадь его, которую он незаметно пришпорил, прибавила шагу и направилась к спуску по другую сторону площади, к дому своего хозяина.
А тот был среди пьющих мужчин возле остерии. Он подошел к лошади со стаканом в руке и ухватил ее под уздцы.
— Эй, кляча, ты чего? Я ведь здесь.
Лошадь тут же остановилась и потянулась к нему губами, словно желая выпить его вино. Священник хотел было слезть на землю, но мужчина удержал его, тронув за ногу, подвел лошадь с всадником к остерии и протянул стакан товарищу, державшему бутылку.
Все, мужчины и женщины, окружили их. На золотистом фоне открытой в остерии двери выделялась высокая цыганская фигура матери Антиоко, лицо которой в отсветах костров отливало медью. Она, улыбаясь, глядела на происходящее. Дети, проснувшиеся от шума, слегка испуганные, вертелись на руках у матерей, и от их движений поблескивали коралловые и золотые амулеты, которыми были украшены все женщины, даже самые бедные. И среди этой одноликой колышащейся толпы священник, сидевший высоко на лошади, и в самом деле выглядел пастырем среди своего стада.
Старик с седой бородой, положив ему руку на колено, обратился к толпе.
— Люди, — с волнением в голосе сказал он, — вот он — воистину божий человек.
— Тогда пусть выпьет за наше здоровье и сотворит еще одно чудо — чтоб у нас не переводилось вино, — воскликнул хозяин лошади, протягивая стакан.
Пауло взял его и поднес к губам, но зубы у него стучали, и красноватое в отблесках огней вино показалось ему кровью.
Он снова сидел за столом в своей маленькой столовой, освещенной масляной лампой. Огромная желтая луна всходила по бледному небу над скалой, которая в окошке выглядела горой.
У него засиделись старик с седой бородой, хозяин лошади и другие крестьяне, которых он пригласил составить компанию. Пили, шутили, рассказывали разные охотничьи истории. Старик с седой бородой, тоже охотник, осуждал Царя Никодемо за то, что старый отшельник, по его словам, охотился не по-божески.
— Не хочу говорить худого в последний его час, но правды ради скажу, что он охотился только за выгодой. Скажем, прошлой зимой за одни только куньи шкурки он выручил тысячи лир. А бог позволяет убивать животных по закону, не всех до единого. А он ловил их даже силками, а это не дозволено, потому что животные, как и мы, страдают, если оказываются в ловушке, — для них это, наверное, самые страшные часы. А однажды я сам собственными глазами видел силок, в котором была одна лишь заячья лапа. Понимаете? Заяц, попавший в ловушку, отгрыз себе лапу и убежал, лишь бы вырваться на свободу. К тому же зачем ему столько денег, Никодемо? Он копил их. А теперь внук его пропьет все в несколько дней.
— Деньги на то и существуют, чтобы тратить их, — сказал хозяин лошади, известный своим тщеславием. — Я, к примеру, всегда тратил их, хотя бы ради развлечения, никому, однако, не причиняя зла. Однажды в праздник, не зная, что еще придумать, я остановил торговца ситами, который проходил мимо, навьюченный своим товаром. И я купил у него все сита, пустил их по площади и побежал за ними, подталкивая ногой. Тут же со смехом и криками все бросились следом за мной. И мальчишки, и парни, и даже солидные люди стали подражать мне. Такая хорошая игра получилась, что до сих пор еще вспоминают. А прежний священник, каждый раз, встречая меня, еще издали спрашивал: «Ну, Паскуале Мазия, нет ли у тебя сита, чтобы поноситься за ним?»
Гости смеялись, один только священник казался рассеянным, был бледным и усталым. И старик с седой бородой, почтительно смотревший на него, намекнул приятелям, что пора уходить. Пора было оставить в святом одиночестве и дать наконец отдохнуть слуге божьему.
Гости поднялись все разом и, пятясь, стали прощаться. И Пауло остался наедине с дрожащим огоньком лампы и луной, смотревшей в оконце. С улицы доносился топот по мощеной мостовой подкованных сапог удалявшихся мужчин.
Еще рано было идти спать. И хотя он чувствовал себя очень утомленным, вконец измученным, словно целый день носил какое-то ярмо, он вовсе не собирался подниматься к себе в комнату.
Мать была еще в кухне. Он не видел ее, но чувствовал, что она бодрствовала, как и накануне ночью.
Как и накануне ночью! Ему показалось, что он долго спал и внезапно проснулся: и эта тоска после возвращения от Аньезе, ночные мысли, письмо, месса в церкви, поездка на плоскогорье, праздник, который устроили крестьяне, — все это было во сне. А настоящая жизнь начинается только сейчас: он выходит… делает несколько шагов… открывает дверь, возвращается к ней… Настоящая жизнь только начинается.
«Может быть, однако, она не ждет меня. Больше не ждет».
И он почувствовал, как ноги его ослабели и колени подкосились. Снова его охватил страх, но теперь уже не от желания вернуться к ней, а при мысли, что она смирилась с судьбой и старается забыть его.
И он понял, что с тех пор, как вернулся с плоскогорья, в самой глубине души его больше всего беспокоило молчание Аньезе, ее исчезновение — он ничего, ничего не знает о ней.
Ведь настоящая смерть — если она разлюбит его.
Он закрыл лицо руками, попытался представить ее и мысленно начал упрекать в том, в чем она должна была бы упрекать его.
«Аньезе, ты не можешь забыть свои обещания. Как, как ты можешь забыть их? Ты крепко сжимала мои руки, говоря: „Мы связаны для жизни и для смерти“. Возможно ли, чтобы ты забыла об этом. Ты говорила: „Знаешь, знаешь…“»
Он провел рукой по затылку, вокруг шеи, ему казалось, что-то душит его.
«Злой дух поймал меня в свои силки».