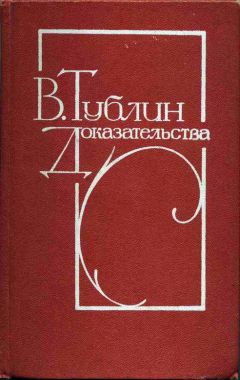Валентин Тублин - Доказательства: Повести
И снова он шел. Его и трясло от пробирающего до костей холода, и в то же время он чувствовал, как по нему ручьями бежит пот, и горло было совершенно сухое. Как жаль, что зимой нет автоматов с газировкой. И тут он понял — можно ведь просто есть снег, благо кругом его было много. Он захватывал снег в горсть, сжимал его, откусывал потихоньку белый пресный кусочек и брел себе дальше.
Один раз он вспомнил о работе. Ему показалось, что все, не связанное с сегодняшним днем, было как бы в другой его жизни — в том числе и работа. И он вспомнил о работе с каким-то странным чувством. Это был другой мир — большие светлые комнаты, где сидят люди, склонившись над листами ватмана или миллиметровки, линейки и рейсшины плавно ходят вверх и вниз, Николай Николаевич Блинов сидит у окна в своих вечных черных нарукавниках, безучастный ко всему, кроме листка бумаги с переплетением линий, толстая Мария Антоновна поглядывает на часы, не в силах дождаться перерыва, Люда Комиссарова смотрит из угла влюбленными глазами на Блинова, Саша Минкин, листая одной рукой СНИП, другой переставляет под столом маленькие шахматные фигурки из партии Фишера со Спасским, в воздухе легкий гул, тепло, уютно… Другой мир. Где-то на самой обочине сознания всплыла еще мысль, связанная с чертежом 24/318 — «Подъездная дорога к площадке первого подъема», но он отмахнулся от нее. Какое значение мог иметь в его жизни теперь чертеж 24/318, если он не скажет Эле того, что он должен сказать? И не только чертеж, а и все остальное — какую имеет цену, смысл и значение, если нет главного?
А главное — это, конечно, не чертеж 24/318.
Тогда он спросил себя: «А что же главное?»
И сам себе ответил: «Конечно, любовь». Потом поправился: «Эля».
Тогда он спросил себя: «Ну а плаванье?»
И тут он вспомнил, что случилось сегодня, и как он плыл, и как сделал то, к чему стремился целых двадцать лет. Но ничего в нем не дрогнуло, словно это был не он и все это было не с ним, а если и с ним, то давным-давно.
Он не знал, сколько же он ходит. Но ему казалось, что главное — это ходить, таким образом он выиграет время, что-то случится, что-то придумается и он увидит Элю. Увидеть ее — вот что было самым важным, и тут задача была чисто техническая: продержаться. Продержаться на ногах. И он шел и не спешил — куда же ему было спешить, — и думал, думал. Снег шел и переставал, и снова падал. Он прошел один мост и другой, затем шел парком. Какое-то время он стоял у полупустых клеток зоопарка, где косматый зебу, не боящийся снега, терся черными боками о решетку… Затем еще шел и шел… И тут он понял, что вышло очень даже здорово, потому что шел он как бы сам по себе и бессистемно, но пришел прямо к ее дому, хотя и не собирался делать это специально, да и знал умом, что делать этого не надо.
Это был большой дом; две кариатиды поддерживали портик над входом. Ах, как радостно было ему стоять здесь. И он стоял и смотрел на знакомые окна во втором этаже — два из них светились, а три были темными. И уже не шел он никуда дальше, потому что и некуда ему было дальше идти. Он только отошел от дома на десяток метров и сел на гранитный парапет набережной. Отсюда он видел весь дом, и вход, и два светящихся окна, а больше ему ничего не было нужно. Прямо перед ним был домик Петра Первого, почти занесенный снегом, за ним тянулась влево и вправо по первому этажу нового громадного дома витрина гастронома. На том берегу сначала еще виднелась, а потом уже только угадывалась решетка Летнего сада, а справа от него и над самой головой высилась огромная каменная туша диковинного зверя. Зверь был нездешней породы, это был военный трофей, свидетельство чьих-то подвигов, зверь назывался Ши-Цзы и прибыл сюда из Маньчжурии, но какой все это имело сейчас смысл…
Зыкин сидел на парапете, в руках у него был снежок, он сгребал снег с гранитного парапета и откусывал понемногу, сидел и смотрел на два освещенных окна во втором этаже дома с кариатидами у входа. Он сидел, привалившись плечом к безучастному зверю, и ждал.
Перерыв, звенит звонок, перерыв.
Перерыв.
Рука с зажатым в ней карандашом замирает, повисает в воздухе, тонкая линия остается неначерченной. Фраза «При прохождении участка с признаками засоления почвы…» обрывается и остается неоконченной. Перерыв. Согнутые над доскою плечи распрямляются, хрустят расправляемые суставы и в полную силу — наконец-то в полную силу — звучат голоса, ибо прозвенел звонок, символ освобождения, отбой, отбой, и ты свободен на ближайшие сорок пять — нет, уже сорок четыре минуты.
Перерыв.
Голоса:
— Пакеты, кто вчера заказывал пакеты? Да, привезли, но если останется… нет, нет, мне не надо…
— Цыплята, пре-крас-ные, парны́е, по рубль семьдесят пять. Вам сколько, парочку? Хорошо, хорошо, мой муж их о-бо-жа-ет…
— Нет, нет, если бы он не тронул фианкетированного слона… При чем здесь С4?
— Мария Терентьевна, подождите, подождите, я сейчас. Ах, простите, Николай Николаевич, вам ничего не нужно в гастрономе? Мне совсем не трудно…
Перерыв…
— Товарищи, постановляли же открывать окна, это же просто конюшня…
— Ниночка, займите на меня очередь в буфете…
— Николай Николаевич, вам ничего не нужно в буфете?
— Товарищи, кто взял мою ракетку… губчатую…
— А деньги-то дают? Люда? Я бегу… бегу…
— Кто богат рублем? Отдаю сразу после зарплаты…
Перерыв, перерыв, перерыв.
— Девочки, девочки, девочки… там, в угловом… ох, дайте отдышаться, в угловом та-ки-е кофточки — австрийские, воротничок закругленный, всего двадцать четыре рубля. Бегом, там Света из водопроводного…
Перерыв.
Пинг-понг… пинг-понг…
Маленький белый целлулоидный шарик взлетает и падает, взлетает и падает. Взмах руки, удар, подрезка, подкрутка, ноги мягко согнуты в коленях, глаза прикованы к маленькому взмывающему и опускающемуся на жесткое зеленое поле пятнышку. Удар, отбито, еще удар, отбито, накат, прыжок — очко; шестнадцать — семнадцать, подает Смаль.
Инженер Смаль играет в настольный теннис, в пинг-понг, с инженером Ковровым. Мячик, маленькое, безликое целлулоидное существо, загнанный зверек, мечется из угла в угол по жесткому зеленому полю, пытается укрыться то в углу то у сетки, но удары — для шарика они вполне могут называться ударами судьбы — заставляют его снова и снова взвиваться в воздух, вертеться волчком, падать и взмывать, ударяться и отскакивать, перелетать через сетку: влево — вправо, влево — вправо, снова, и снова, и снова под не знающими пощады ударами.
Очко. Двадцать — девятнадцать.
«Десять рублей отдам Дудину, — думает инженер Смаль и отбивает шарик в левый угол длинным подкрученным ударом. — Да, обязательно, — удар, — Дудину и пятерку, — удар, — Прошиной. И, — удар, — рубль, — удар, — взносы. Нет, — взносы — могут — подождать».
Ковров отыгрывает очко, игра до двух. Смаль пританцовывает на пружинящих ногах, глаза его прищурены. «Десять и пять, — считает он, — это пятнадцать. От аванса останется пятьдесят минус пятнадцать — тридцать пять. На тридцать пять рублей надо будет жить до следующей зарплаты, тридцать пять разделить на пятнадцать, это будет…»
Крутящийся шарик мечется из стороны в сторону от беспощадных ударов судьбы; инженер Смаль пытается решить в уме несложную арифметическую задачу — разделить тридцать пять на пятнадцать. Это будет два, два… остается пять. И три. Три на пятнадцать — сорок пять. Три да три в периоде — два рубля и тридцать три копейки в день. Он представляет себе сегодняшнее возвращение домой и глаза тещи, которой он отдаст эти жалкие тридцать пять рублей. Он слышит ее голос: «Мужчина, который за месяц работы получает сто десять рублей, — это не мужчина. Почему, Дима, вам не пойти на завод токарем?» Действительно — почему?
Все свои эмоции он вкладывает в удар. Удар получается неотразимым — Ковров прыгает, дотягивается — нет, не дотягивается. Выиграл Смаль.
Следующий!
Инженер Ковров бросает ракетку на жесткое зеленое поле; маленький белый шарик покорно отдыхает от беспощадных ударов у сетки. Смаль вытирает пот. «Скорее бы малышку отдать в ясли». Хорошо он подрезал последний удар. Ковров — пижон, а пижонов надо учить. Он завидует Коврову — если бы он был сейчас свободен, он, пожалуй, одевался бы не хуже.
И он подтягивает свои штаны с пузырями на коленях.
Чепуха, говорит себе инженер Ковров. Смалю просто повезло. Плевать мне на его азиатский хват. Если бы не сорвалась вторая подача… А впрочем, плевать…
У инженера Коврова нет тещи, ибо он не женат, спасибо. Он молод, он свободен, у него нет ни жены, ни тещи, деньги для него не проблема. Деньги в наше время вообще не проблема, они всюду, не ленись нагибаться и подбирать. Инженер Ковров не ленится нагибаться и подбирать. Очередь за зарплатой вовсе не настраивает его на пессимистический лад. Впереди, через несколько человек, Ковров видит девушку, которую он приметил совсем недавно, впрочем, он и сам здесь недавно. Девушка эта из группы вертикальной планировки, где всегда сидит их начальник, сорокалетний сыч в потертых нарукавниках, так что не заскочишь в отдел и не поболтаешь. Он уже провел предварительную разведку: то, что он узнал, отнюдь не сулит ему легкой победы. Но эта девушка, Люда Комиссарова, нравится ему — в ней есть «нечто». «Мордашка, — думает Ковров, — могла быть и получше, но фигура… ребята с ума сойдут».