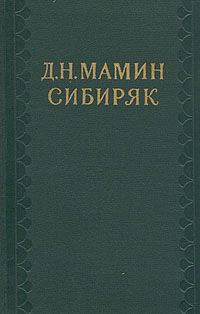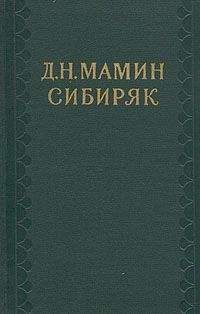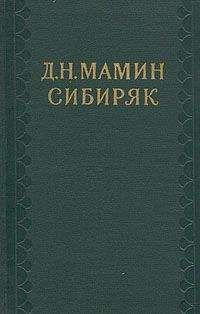Дмитрий Мамин-Сибиряк - Том 4. Уральские рассказы
— Нет, не возвращайте, — советовал Крапивин. — Пусть они пойдут на ваше освобождение из крепостной зависимости… Додонову не все ли равно, куда ни бросать деньги, а здесь они по крайней мере пойдут на хорошее дело.
Антонида Васильевна ничего не ответила и только задумалась. Обстоятельства так складывались, что ей точно нельзя было избавиться от Додонова. Вот и Крапивин советует взять деньги… После того, что она наговорила ему тогда, другой на его месте и носу не показал бы в театр, а он еще букет посылает. Эта настойчивость интриговала ее: может быть, Додонов и не такой человек, каким кажется. И няня Улитушка то же говорит… Приняв деньги, Антонида Васильевна сочла себя обязанной приколоть одну камелию к своему белому платью. Она была необыкновенно эффектна в этот вечер и на бесконечные вызовы пропела лучшие номера в своем репертуаре.
— Если бы я был помоложе, полковник… — повторил несколько раз генерал, подмигивая Додонову. — Ведь это брильянт!..
— Редкие камни, ваше превосходительство, требуют слишком дорогой оправы, — отшучивался Додонов.
По желанию генерала была устроена подписка, и бенефициантке поднесли несколько золотых безделушек: два браслета, брошь и серьги. После спектакля в уборной Антониды Васильевны набралось много поклонников и в том числе генерал с Додоновым. Крапивин велел подать шампанского, — пир так пир.
— В наше время пили шампанское из башмачков красавиц… — шутил генерал, чокаясь с Антонидой Васильевной.
— Как хозяйка, по русскому обычаю, я желаю вас поцеловать, ваше высокопревосходительство… — заявила бенефициантка, покраснев от собственной смелости.
— Спасибо… Это уж совсем по-семейному.
Генерал поцеловал хорошенькую актрису при звуках торжественного туша и громких аплодисментах набравшейся в уборной публики. Молчал один Додонов. Он держался как-то в стороне, как виноватый. Эта покорность польстила Антониде Васильевне. Да, она сегодня была так счастлива, как еще никогда, а этот Додонов походил на школьника, поставленного в угол. Даже генерал заметил это и проговорил:
— Что ты, братец, как мокрая курица?.. Может быть, мне завидуешь?
— У меня сегодня в чужом пиру похмелье, ваше превосходительство, — ответил Додонов и сейчас же начал прощаться.
— Какой он странный… — удивлялся старик, когда Додонов вышел. — Право, очень странный. Не так ли, Гоголенко?
— Совершенно странный, ваше высокопревосходительство.
— А между тем полковник… богат… молод…
Развеселившийся генерал заставил Антониду Васильевну поцеловаться и с Крапивиным, что та исполнила очень неохотно. Крапивин был этим огорчен и заметно надулся, но девушка чувствовала себя слишком счастливой, чтобы замечать чужое настроение. Дома его ожидала другая неприятность: комната Антониды Васильевны во время спектакля была убрана заново.
Кровать из красного дерева была покрыта одеялом из бухарского шелка, китайская ширмочка служила для нее точно экраном; роскошный туалет, зеркало в настоящей серебряной раме, ковер на полу, мягкий диванчик, обитый голубым атласом, — словом, все заново. Конечно, это устроил Иван Гордеевич, пока шел спектакль, и об этой затее знала вперед одна Улитушка. От старухи сегодня пахло наливкой сильнее обыкновенного. Крапивин совсем взбесился, когда узнал все.
— Я этого не могу позволить! — кричал он, бегая по комнате. — Я антрепренер, и все артистки у меня на ответственности.
Антонида Васильевна молчала. Ей сделалось жаль, когда стали выносить из комнаты додоновские подарки и поставили на место старую мебель. Торжество закончилось для нее слезами. Она не могла даже дать отчета самой себе, о чем плакала. В душе накипело такое обидное и нехорошее чувство: зачем она крепостная, подневольная актриса, зачем Додонов такой богатый и дурной человек?.. Где-то в глубине души у ней шевельнулось чувство к нему, и она сама испугалась, как человек, который неожиданно очутился на краю пропасти. Но, с другой стороны, что она сделала такое, чтобы сердиться на нее, как делает Крапивин?.. И Крапивин тоже нехороший человек, потому что думает только о себе. Да, он эгоист, этот Крапивин.
— Ишь, как расходился! — ворчала Улитушка, раздевая свою «шпитонку», как она называла всех своих воспитанниц. — Небиль помешала… Ведь она, небиль-то, не виновата. А ты бы завел сам такую-то… Додонов барин настоящий, ничего не пожалеет.
— Няня, будет тебе… — оговаривала ее Антонида Васильевна, лежа в постели.
— А всегда скажу… Тоже с меня не голова снята. Да… форменный барин.
Явилось еще одно обстоятельство, которое тоже неприятно действовало на Антониду Васильевну. Другие актрисы завидовали ей, а откровенная Фимушка высказала это слишком уж прямо. Эта зависть отравила бенефициантке ее торжество окончательно, и она даже швырнула свои подарки на пол.
— Ну, Милитриса Кирбитьевна, ты не очень швыряй, — ворчала на нее Улитушка, подбирая футляры. — Тоже не щепки, а деньги плачены… Вон Фимушка-то что говорит: «Я бы, говорит, прямо убежала к Додонову». Умок-то у ней невелик, а тоже придумала.
Крапивин в это время ходил у себя в мезонине из угла в угол, как попавший в засаду волк. Так-то ценят его заботы, его честность, его преданность одному искусству… Достаточно показать несколько блестящих побрякушек и шелковых тряпок, чтобы разрушить всю его работу. Нет, он так дешево не продаст себя. То неприятное чувство, которое он пережил сегодня, начало мучить, как напрасная тяжесть. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое Антониде Васильевне, — пусть день кончится для нее мирно. Он спустился во второй этаж и постучал в двери комнаты своей любимицы.
— Антонида Васильевна, не спите?
Ответа не последовало: примадонна сердилась, и Крапивин, улыбнувшись, побрел в свой мезонин.
IXС Антонидой Васильевной происходило что-то странное: она начала задумываться и скучать. По субботам труппа по-прежнему уезжала в Краснослободский завод. Додонов был предупредителен, вежлив — и только. Он только раз спросил Антониду Васильевну, правда ли, что его подарки выброшены из комнаты.
— Да, правда, — ответила она, опустив глаза.
— Это было ваше собственное желание?
— И да и нет… Сначала мне не хотелось расставаться с такими хорошими вещами, но потом я поняла, что принимать такие дорогие подарки неприлично…
— Почему?
— Потому что нужно уметь за них платить, а что может дать крепостная актриса?.. Кроме этого, с вашей стороны было просто неделикатно обязывать бедную, трудящуюся девушку такими денежными подарками. Поставьте себя на мое место и скажите, как вы поступили бы?
— Я?.. Я сказал бы, что этого слишком мало… да! Разве можно заплатить деньгами за то наслаждение, которое доставляется талантом?.. Нищим являюсь я, а не вы… Своим пением, своею игрой вы будите во мне живого человека… Ведь это называется воскресением из мертвых.
Они сидели одни в большой гостиной, где со стены смотрели хмурые фамильные портреты. Теперь Антонида Васильевна нисколько не боялась Додонова и спокойно ходила по всем комнатам, кроме девичьей. Ловкий Иван Гордеевич умел так устроить дела, что Крапивин не мешал этим tete-a-tete[90] тяжелой обстановке барского старого дома Антонида Васильевна являлась для Додонова блуждающим солнечным лучом, который на мгновение освещал его темную жизнь и исчезал. Она и сейчас сидела на бархатном диване такая красивая, свежая, и столько было чарующей прелести в этой белокурой грезовской головке, глядевшей прямо в душу Додонову своими серыми лучистыми глазами. У ней являлось желание помучить этого пресытившегося человека, и она заметно оживлялась в его присутствии.
— Вы меня презираете, Антонида Васильевна? — спросил Додонов тихо и протянул свою руку к ее руке.
— Да, да… Мне делается гадко, когда я думаю о вашей жизни. Бывший офицер, образованный человек, и так погрязнуть… Я удивляюсь, как можно унизить себя до такой степени! Есть просто известная порядочность, которая не позволяет людям делать гадости.
— Но если нет руки, которая вывела бы из этой обстановки, если нет ответа на самое святое чувство и если этим человека заставляют делать новые гадости?
— Что вы хотите этим сказать?.
Додонов взял ее за руку и с каким-то благоговением поцеловал кончики ее пальцев. Она хотела выдернуть руку и не могла — голова кружилась, в глазах завертелись красные пятна. Ей было страшно и хорошо, но она пересилила себя и засмеялась нехорошим, холодным смехом.
— Какие нежности, Виссарион Платоныч… Вы, кажется, принимаете меня за горничную. Не хотите ли, я вам подарю ленточку на память?
Этот смех точно ужалил Додонова, и он даже отскочил от нее. О, это было похуже того, что он слышал от нее раньше!
— Понимаю все, — шептал он, хватаясь за голову. — Вы любите другого… Для этого другого… вы найдете и другие слова.