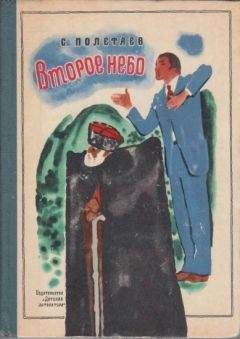Михаил Осоргин - Повесть о сестре
— Сейчас не ест, а потом запросит; что же это за порядок!
— Когда захочет, тогда ей и дадите, няня.
— Евгений Карлович сказали, чтобы давать кушать в половине одиннадцатого.
Няня никогда не говорит "барин" и "барыня"; инженера она называет по имени-отчеству, жену его старается не называть никак.
— В половине одиннадцатого и кормите. Но если она не хочет — не заставляйте, поест потом.
Губы няньки презрительно поджимаются. Она настолько хорошо вышколена, что может выслушивать любой вздор. Она готова предоставить матери портить родную дочь, но не желает нести ответственности за материнское безумие:
— Евгений Карлович наказывали мне…
У Кати вздрагивает подбородок:
— Да, няня, я уже слышала. Будьте добры покормить Лялечку, если ей захочется. И никогда не заставляйте ребенка есть насильно.
Ей хотелось бы приласкать плачущую девочку, но она этого не делает, чтобы не подрывать окончательно авторитет няньки.
Лялечка смотрит исподлобья, но с большим любопытством. Она понимает, что между мамой и няней нет согласия; она знает также, что теперь можно не есть каши. Но она не уверена, что мама победила няню и что у мамы над ней, Лялькой, больше власти. Вот сейчас мама уйдет, а няня останется, и хотя уже не будет совать ей в рот противную ложку, но что-нибудь такое ей докажет. Как временная защита мама великолепна, но прочного и постоянного доверия, пожалуй, и не заслуживает. Во всяком случае, высшая власть — не она.
Мать уходит к себе. Она читала, теперь читать больше не может. В ее голове беспокойные и недобрые мысли.
Кушать нужно в половине одиннадцатого — хотя бы было противно, хотя бы даже было вредно. Нужно ложиться спать, нужно вставать, нужно жить вместе, нужно притворяться, нужно поддерживать видимость семейной жизни, нужно лгать, нужно улыбаться, нужно убивать свою молодость, все нужно, нужно, нужно. И это нужно, чтобы не огорчить старой матери, которая считает ее счастливой и устроенной в жизни, чтобы не потерять детей, уже полуотнятых, чтобы не сделать их нищими, чтобы не опозорить себя скандалом, не оказаться в ложном и невыносимом положении — как будто теперь ее положение выносимо и не ложно. Чтобы ни случилось, виноватой может быть только она, а он — никогда.
На стороне у него своя жизнь, но в семье он безупречен. При посторонних он даже любезен, почти нежен, во всяком случае почтительно вежлив, отличный и заботливый отец, не ей чета, прекрасный супруг, снисходительный к недостаткам жены.
Пять лет тому назад, вскоре после рождения Ляльки, между ними был заключен договор о взаимной свободе. Тогда он был жалок и противен, стоял перед ней на коленях, он, такой важный и непогрешимый и такой взрослый в сравнении с нею, совсем еще девочкой, хотя и матерью двоих его детей. Тогда она хотела уйти от него, и не из ревности, — любовь ушла раньше, — а из отвращения. Она не удержалась от фразы, которую где-то вычитала:
— Муж, опустившийся до горничной, приглашает жену отдаться лакею.
И, кажется, эта фраза подействовала на него сильнее, чем ее искренний ужас. Он не знал, что она так умна.
И все-таки он оказался, — могло ли быть иначе? — и умнее и опытнее. Он прекрасно знал, что "взаимная свобода" ничем ему не угрожает и что никогда она, живя в его доме, не позволит себе воспользоваться своим призрачным правом свободы, не потому, что побоится, а просто потому, что она не такова.
Выждав время, он хотел вернуть себе если не любовь жены, то хотя бы ее покорность тому, что он называл долгом. Но эта попытка окончилась полным его поражением и едва не вызвала окончательного разрыва. Она унизила его настолько, что сама вызвала с фабрики слесаря и велела сделать к своей двери внутренний замок.
С тех пор инженер ужинал дома только тогда, когда у них были его или общие гости. Своей долей оговоренной "свободы" он пользовался, не особенно скрываясь. Семья осталась целой и дом их — почтенным и уважаемым; холодным домом он был и прежде, так как редко им нравились одни и те же люди, книги, мысли, обстановка, развлечения и поступки. Она не брала у него денег — только на хозяйство и на нужды детей, свои собственные нужды удовлетворяя экономией.
В сущности, всю эту историю Катя вспоминала теперь как некую житейскую мелочь. Дело было не в каком-то его поступке, пусть очень противном и исключительно некрасивом, а в том, что внезапно человек раскрылся. И столь же внезапно оказалось, что он всегда был грязным и маленьким, только чисто мылся и ходил на высоких каблуках. И стали понятными иные слова его и жесты, которые раньше казались шуткой и напрасной остротой. И стала противной и невозможной близость с ним, потому что без огромной любви и совместного смущения такая близость ужасна и нестерпима. И еще большее оказалось: что и вообще такой нужной любви не было, а было только невольное, не допускавшее критики уважение девочки к очень взрослому и сильному человеку, первому и единственному в ее жизни, завоевателю, отцу ее ребенка. И теперь она с брезгливостью не только отгоняла от себя память об его прикосновениях, но и к детям, его детям, не могла найти в себе прежней теплой и страстной материнской тяги. Она поняла слишком многое и, поняв, осиротела.
* * *Нужно есть, нужно гулять и нужно что-то придумать, чтобы забыться и чтобы жизнь стала выносимой. А придумать нечего. Неужели такая же жизнь предстоит и Ляльке, ее маленькой дочери, и неужели и она дождется дня, когда придет хозяин и купит ее тело и ее волю?
Лелечка не хочет кашки! Лелечка плачет.
Миньон
Иногда мы с сестрой "выезжали в свет"; это значит, что из сокольничьей дали мы отправлялись на выставку, на концерт, в театр, реже на один из студенческих балов, в то время отличавшихся пышностью, многолюдней и молодым весельем.
Я очень любил бывать с сестрой на людях, — я ею гордился. Белобрысый, худой, некрасивый и неказистый студентик, я привык, что меня в обществе не замечали; но рядом с сестрой, как ее кавалер, я сразу вырастал и делался предметом зависти. При всей молодости и моложавости в Кате женщина преобладала над девочкой. Где бы мы ни появлялись — она привлекала общее внимание. Мне кажется, что я помогал ей в этом, оттеняя невзрачностью своей фигуры ее редкую красоту и исключительную миловидность. Признать нас за брата и сестру было трудно. Мы всюду появлялись под руку, причем я надевал на лицо маску усталости и равнодушия и иронически кривил губы навстречу любопытным взглядам.
Вероятно, это выходило у меня достаточно глупо и вряд ли кого-нибудь поражало. Напротив, Катя, с ее страстной жаждой жизни и непривычкой быть в большом обществе, осматривалась кругом с нескрываемым интересом и не замечала, что она сама — всех лучше и интереснее. Только иногда ее смущали пристальные и пытливые взоры, особенно мужские, и она, как бы догадываясь, краснела и спешила поскорее смешаться с толпой.
Застенчивой Катя не была. Там, где она чувствовала себя сильной и уверенной, она выступала смело, как на сцене. Одним из любимых номеров наших "выступлений" были танцы, и, я думаю, редко можно было видеть такую странную пару.
В то время не танцевали нотной, трясущейся толпой, как сейчас танцуют фокстроты и танго. Модными танцами были па-де-катр, па-де-патинер, миньон — танцы трудные и степенные, в которых выступало не много пар. Мы с Катей специализировались на миньон, танцуя его с такой преувеличенной фигурностью, часто собственного изобретения, что постепенно все внимание сосредоточивалось на нас. Я и тут был для Кати рамкой — как для бриллианта изумительной воды, вставленного в грубоватую и топорную оправу. Взоры публики на минуту задерживались на мне, чтобы восхищенно замереть на Кате. Она танцевала с такой уверенностью и с такой пластической скромностью движений, что подчеркнутая фигурность танца делалась убедительной. Нам нередко случалось оставаться единственной танцующей парой в большом зале. Я дрожал от волнения и ужаса, путая фигуры, но Катя ничего не замечала и улыбалась мне ободряюще. Иногда нам, вернее — ей, аплодировал весь зал, — и только тогда она, вспыхнув, увлекала меня к выходу.
Никогда и ни с кем, кроме меня, Катя миньон не танцевала, и вообще мы редко оставались дольше полуночи на балах, затягивавшихся до самого рассвета.
Иногда наш отъезд был настоящим бегством. Помню, как на одном из обычных благотворительных балов в Благородном собрании Катю преследовал какой-то военный, очевидно совершенно потерявший голову. Пользуясь простотой обычаев на студенческом балу, он представился мне и просил меня представить его моей "даме". Если бы это был студент, я бы, вероятно, не сумел ему отказать; но к офицерам в те довоенные времена в наших интеллигентских кругах относились полупрезрительно даже женщины. Я ответил, что спрошу разрешения "дамы", и мы, отойдя, поспешили скрыться. Но он разыскал нас у выхода на улицу и остановился у самой двери в выжидающей позе.