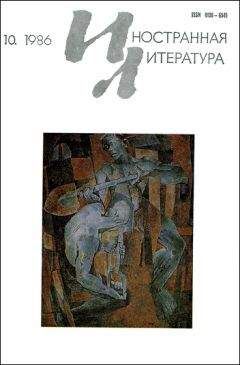Полубрат - Кристенсен Ларс Соби
Мама и Болетта поехали с Фредом в больницу, где ему сшили нос и наново склепали челюсть. Он был так плох, что его не взяли в армию, я, правда, не знаю, было ли это единственной причиной, но, во всяком случае, норвежские вооружённые силы не испытывали острой потребности в склонном к тошноте дислексике с шумом в ушах, полуслепом на левый глаз, любящем шататься по улицам, страдающем головными болями и отличающемся непредсказуемым поведением. Я возвращался домой с Педером и Вивиан. Мы неспешно брели по незнакомым улицам, но страшно нам почему-то не было, после Центрального боксёрского клуба хуже стать уже не могло, мы чувствовали себя неуязвимыми. — Теперь я знаю невозможное число, — сказал Педер. — Какое? — Оно между девять и десять. — На Стурторгет мы догнали трамвай, сели сзади. В жёлтом свете наши лица выглядели бледными. А темнота за окном казалась чёрным потоком, утекавшим в обратную сторону, в городскую клоаку. Мы вылезли на Фрогнере. Постояли там немного, не зная, как быть. — Мне его жалко, — прошептала Вивиан. Педер отвернулся. — Кого? — спросил я. — Фреда, конечно.
Домой он заявился только на другой день. Он вошёл тихо. Я не услышал. Вот тогда-то я и увидел его, не желая того, перед зеркалом в маминой спальне. Я шёл к выходу и замер не дыша, меньше всего мне хотелось стать свидетелем этой сцены, да поздно. Он приник к зеркалу, к своему неверному отображению, и стал паясничать, строить гримасы, и я подумал — хотя, возможно, это я теперь так думаю, — что он высматривает своё истинное лицо, может, он надеялся увидеть в матовой глубине зеркала все свои маски, целую галерею, оканчивающуюся его настоящим лицом. Вдруг Фред засмеялся, приставил к зеркалу губы и лизнул. Глаза б мои этого не видели. Но они уже увидели. Возврата нет. — Зачем ты проиграл? — спросил я. Фред стремительно обернулся ко мне, на миг смутившись, он был в ярости. — Слышишь, Барнум? — Что? — Он пару раз глубоко вздохнул и улыбнулся. — Нос снова как новенький. — Он сел на мамину кровать и откинулся назад. В комнате всё ещё витал аромат «Малаги». Воздух был сладкий и тягучий. Мне захотелось напиться пьяным. — Фред, зачем ты проиграл? — Он вновь поднялся, он был удивлён, почти печален. — Проиграл? Я победил, Барнум. Или ты вообще ничего не понимаешь?
Прошла уйма лет, прежде чем я проявил плёнку, снятую тем летом, которое я называю моим первым летом. Я долго откладывал проявку. Потому что не мог забыть маму Педера, как она заслоняет лицо, разворачивая коляску, в бешенстве и ужасе оттого, что вот сейчас у неё похитят душу. Я дал слово не проявлять того снимка. Но наступил момент, когда воспоминания перестали даваться мне в руки, едва я пробовал увековечить их на бумаге, как они рассыпались в пыль и прах. И мне как воздух потребовалось что-то зримое, вещное, что можно подержать в руках, рассмотреть, от чего можно плясать дальше в моём повествовании. И вот я взял старую плёнку, лежавшую нетронутой в ящике с того самого лета, и понёc в фотоателье на Бугстадвейен с мыслью, что таким макаром мне удастся собрать воспоминания в связный рассказ, подходящий для сценария. Спустя неделю я забрал пакет с фотографиями. Пошёл в «Старого майора» и стал смотреть снимки. Я медленно перебирал пачку. Это было возвращением домой. Я словно направил свет в прошлое. Самый первый снимок сделала ещё мама, в мае 1945-го — Пра и Болетта стоят на балконе нашей квартиры на Киркевейен, их застали врасплох, они оторопело и с ужасом почти смотрят на ту, что фотографирует их из гостиной, Болетта собирается открыть рот, а Пра растопырила пальцы, возможно, в тот момент она тоже испугалась за свою душу. А остальные снимки относятся к другому времени, словно бы — раз! — и перепрыгнули через целую жизнь: Педер в двуспальной кровати на Ильярне, с голым торсом, один глаз закрыт, рука прикрывает срам, а тень делит комнату и снимок надвое. Это моя тень. Мы с Вивиан сидим на кровати, между нами лежит чемодан, Вивиан наклонилась, чтобы поцеловать моё тощее плечо. Я не помнил, что Педер это сфотографировал. И не помню поцелуя, прикосновения. Мама Педера разворачивает коляску, но дело не в том, что её напугал аппарат, нет, её ослепило солнце, так расшифровываю я снимок, её ослепило солнце, широко и беспощадно растёкшееся над фьордом в то моё первое лето, поэтому она и заслонила лицо руками, от него, а на заднем плане, около угла веранды, стоит папа, его видно наполовину: то ли он делает шаг к нам, то ли отходит в сторону, это он клянёт её душу. Я выпиваю ещё одно пиво. На улице пошёл дождь. В кафе набивается народ, они развешивают по стульям свою омерзительную одежду и заказывают красное вино половинами бутылок. На последнем снимке Фред. Это не я снимал. Скорей всего, он сам, и, скорей всего, на чердаке, потому что можно разобрать окно в крыше и верёвки с деревянными прищепками, наверно, он нажал на спуск, держа аппарат на вытянутой руке. Лица не узнать, оно перекошено, рот разинут, он что-то говорит, он хочет что-то сказать мне, он кричит с высоты, с чердака вниз, в колодец времени, а я ничего не слышу, не слышно мне его.
(голод)
Как-то вечером позвонил Педер, сам не свой от возбуждения. Я успел поднять трубку, опередив всех, тем более дома никого больше не было, и Педер показался мне в том состоянии, сказать о котором «писал кипятком» не будет большим преувеличением. Можно было подумать, он с другой планеты пытается докричаться до меня в противотуманный рупор. — Быстро приходи к дереву! — прогудел он. Я отставил трубку на вытянутую руку, чтоб не оглохнуть. Педер завопил ещё громче в своём космосе: — Барнум, ты здесь? — Я придвинул трубку к уху. — Здесь. Что за паника? — Увидишь! — Кончай свистеть. Что случилось? — Педер взъелся с полоборота. — Так, сморчок недорощенный, ты идёшь или не идёшь? — Иду! — крикнул я. И сорвался с места. Бросил трубку на рычаг, на ходу сдёрнул куртку и дунул вниз по чёрной лестнице, едва не свалив маму, поднимавшуюся с пустым помойным ведром. Я шёл на новый личный рекорд, потому что, когда Педер называет меня недорощенным сморчком, дело серьёзное, тут шуточками не отделаешься. Если б он назвал меня «клоп», я волынился бы, никуда не торопясь, услышав «шлёп-нога», сто раз подумал бы, стоит ли вообще выходить из дому, а «варежку» посчитал бы сомнительным основанием просто для продолжения разговора. Но недорощенный сморчок — это дело серьёзное, как минимум пожар высшего разряда в парке Фрогнер. — Опаздываю! — крикнул я Болетте, отставшей от мамы на восемнадцать ступенек, хотя ни одна из женщин рта не успела открыть, дальше я ураганом пронёсся по двору, поднырнув под сушилку и потоптав жухлые цветы домоуправа Банга, не сбавляя скорости, пропилил улицу Якоба Ола, но на площади Весткантторгет движение застопорилось: меня перехватили, окликнули голосом Фреда, а его никто не видел уже пять дней. Не повезло мне, надо было бежать другой дорогой. Он сидел на единственной на площади скамейке. Наступил октябрь, скамейки поубирали, одна эта осталась подежурить. Вид у Фреда был нехороший. После боя с Бротеном лицо Фреда понемногу обретало привычный вид, сам он стал ещё худосочнее, мускулы словно истончились, точно их надолго оставили мокнуть в воде, а потом высушили на солнце. Он курил и уронил сигарету на щебёнку между неказистых ботинок. — Сядь, Барнум, — велел Фред. Я сел. Хотя Педер уже ждал меня. Если только ему не надоело и он не ушёл. — Где ты был? — спросил я. — А почему ты спрашиваешь? — Так просто. — Мама не сердится? — Вроде нет. — Уверен? — Во всяком случае, она ничего не говорила. — Фред раскурил бычок и сунул его в рот. — Может, я у Вилли был. — У тренера? Ты снова собираешься боксировать? — Фред помотал головой. — Вилли больше не тренирует. — Он ушёл из тренеров? — Фред поглядел на меня: — Торопишься? — У меня встреча с Педером, — прошептал я. Фред пожал плечами: — Ну иди. — Я сидел. Что ты делал у Вилли, Фред? — У тебя, кажется, встреча с Педером? — Да. Скоро. — Вивиан тоже будет? — Меня неприятно царапнуло, что он произнёс её имя. И мне захотелось дать ей собственное имя. К примеру, Лорен. Да, решил я, называться Лорен ей очень подходит. Лорен и Барнум — прекрасно звучит, правильная сладкая парочка, а Фред пусть говорит «Вивиан» в своё удовольствие, тем более он не в курсе, что для меня она Лорен. — Не знаю, — сказал я. Потом поднялся со скамейки. — И чем же ты займёшься со своим закадычным другом, а, Барнум? — Не знаю, — опять признался я. — И этого тоже не знаешь? Или не хочешь говорить? — Не знаю, Фред. Чёстное слово. — Честное слово? Это хорошо. — Фред, знаешь, мне пора. — Повернись, — приказал он. Я закрыл глаза и повернулся. — В чём дело? — Хотел проверить, не скрестил ли ты пальцы. Потому что тогда не считается. — Что не считается, Фред? — Честное слово не считается, Барнум. Привет Педеру. — Ага, — сказал я. — Передам. — Фред улыбнулся: — И Вивиан привет. Если она придёт. — Я пошёл дальше через площадь, в сторону уличных огней, меня подмывало припустить бегом, но я не решился. Фред вдруг встал тоже. — Никогда не делай того, в чём потом раскаешься, — крикнул он. Я остановился: — Что ты имеешь в виду? — Фред улыбнулся: — Что я имею в виду? Сам знаешь! — Нет, Фред, ошибаешься. Я не знаю. — Но Фред уже опустился обратно на скамейку, словно наша беседа опостылела ему хуже зубной боли и он не собирается продолжать её дальше. — Не знаешь, так узнаешь, Барнум. — Я не срывался на бег, пока не дошёл до фонтана, он не работал, потому что уже осень и в любой день могут начаться заморозки. От фонтана до площади Соллипласс я долетел, не тормозя, а там в Гидропарке под нашим деревом стоял Педер, перебирая ногами от нетерпения. Я остановился, хватая ртом воздух, и Педер сам бросился мне навстречу, меся ногами напластования нападавших с ветвей листьев. — Где тебя черти носили! — Прибежал, как смог. — Как смог! Надо было смочь быстрее! — Мы обнялись и пару минут молчали, мы стояли по колено в кроваво-красных листьях, осклизлых хлопьях, никогда не лежащих тихо, в лиственном море. — И что случилось? — прошептал я. — На Соллигатен снимают кино, — шёпотом же ответил Педер. — Кино? — Да, чёрт побери! На Соллигатен снимают кино. — Сейчас? — Именно сию минуту. Ты думаешь, я шутки шучу? — Нет, вот чего я никак не думал, так это что Педер Миил разыгрывает меня, хоть он и был мастак на приколы и мог устроить их на пустом месте хрен знает из чего, но то, что заурядным октябрьским вечером кто-то снимает на Соллигатен кино, было чистой правдой. — А Вивиан где? — спросил я. Педер взглянул на часы, и лоб его покрылся испариной: — Она такая же копуша, как ты! — Мы подождали ещё немного, но Вивиан всё не шла. Или ей запретили уходить из дому на ночь глядя, или она внезапно заболела, но что-то случилось. Некое обстоятельство помешало ей прийти. Страшная догадка ударила мне в голову, как молния, но исчезла прежде, чем я ухватил её и додумал до конца. Ждать дольше мы не могли и пошли на Соллигатен. Педер не соврал. Кино снималось. Здесь раскинулся параллельный мир. И мы медленно вступили в него. Асфальт был посыпан землёй. Красный почтовый ящик снят. Машин, обычно запаркованных вдоль улицы, не было и в помине. У подворотни дома номер два стоял констебль в форме старого образца, с приплюснутой фуражкой и большими начищенными пуговицами. Он поднял руку, приветствуя возницу конного такси, прокатившего мимо. Даже занавески в окнах первого этажа и те поменяли, и по какой-то причине именно занавески особенно поразили моё воображение: а вдруг вид квартир за занавесками тоже изменился, вдруг киношники переклеили там обои, расставили другие стулья и козетки, заменили книги на полках, развесили картины по стенам, выдрали душ, спрятали холодильники и стиральные машины да заодно отправили хозяев в деревню, подальше? Другими словами, у меня в голове родился странный вопрос, не до конца ещё понятный мне самому и который я вряд ли сумею растолковать другим: что надо поменять, чтобы обмануть будущих зрителей фильма, сколько надо задекорировать, задрапировать, переделать и переставить не только в фасадах, но и во внутренностях зданий, в людях, в сердцах, даже в том, как они ходят, чтобы зрители поверили — да, так и было? И я услышал отцов смех и голос: — Важно не то, что ты видишь, а то, что ты думаешь, что ты видишь. — Я подёргал Педера за рукав. — Смотри, — прошептал я, — занавески поменяли! — Но тут внизу улицы возник какой-то переполох. Нас ослепил яркий свет. Мужчина с рупором вышел из тени. Наверняка режиссёр. — Уберите отсюда этих идиотов! — гаркнул он. Примчался констебль и шуганул нас чуть не обратно до площади Соллипласс, но там мы сели на корточки и укрылись за помойными баками. — Бляха-муха, — вздохнул Педер. — Да уж, — откликнулся я, — а были так близко. — Констебль бегом вернулся на своё место у подворотни. Мы выползли немного из-за бака, и тут завертелись настоящие события. Дама в меховой шубке и шляпке шла вниз по тротуару. За ней, едва не наезжая на пятки, следовала камера. У нас мурашки по спине побежали. Это было не в кино. А взаправду. Причём мы как раз были внутри фильма, в раздвоившейся реальности. Дама приближалась к нам, она и оператор, казалось, она зябнет, потому что она грела руки в толстом меховом мешочке на животе, и она беспрерывно оглядывалась, словно опасаясь преследования, может, возвращалась одна домой в поздний час и боялась нападения, хотя никого, кроме оператора, поблизости не было, а он бы вряд ли на такое пошёл. Наконец она остановилась у подворотни, констебль вытянулся во фрунт и взял под козырёк, она потопталась в нерешительности, ещё раз оглянулась — лицо белее мела — и шагнула во мрак. Режиссёр встал со стула и захлопал в ладоши. Дама в шубке выпорхнула из подворотни, она лучилась улыбкой, а от режиссёра ещё получила поцелуй в щёку. Софиты погасли с дребезжащим звуком. — Лорен Бэколл лучше, — шепнул Педер. Едва он сказал это, я почувствовал, что мне не хватает рядом Вивиан, и Педеру, очевидно, тоже. Она должна была быть сейчас здесь. Чтоб мы видели всё это вместе. — Что это за фильм, как ты думаешь? — прошептал я. — Для зрителей от сорока и старше, — ответил Педер. Так мы и сидели на корточках под сенью зловонного мусорного бака. От него пахло старостью лета. Прошло ещё сколько-то времени. Пробежал пёс, он держал что-то в пасти. Возможно, съёмки закончились. Констебль закурил. Мы ждали. И все ждали. Как у моря погоды. Режиссёр восседал на стуле и разбирался в пухлой пачке бумаг. Вдруг налетел порыв ветра, тот, который вырывается иногда со дна города, от Мюнкедамсвейен, и проносится по улицам как ураган, теперь он подхватил страницу с колен режиссёра, она перелетела через ограду, я вскочил, хотя Педер тянул меня вниз, и кинулся за листком, нагнал его и помчался назад, к режиссёру, который метался, как повредившийся рассудком, но на бегу я успел прочитать с самого верха страницы несколько строк по-датски, их я помню как сейчас, будто съёмки происходили вчера, сегодня или минуту назад, потому что это был самый первый в жизни сценарий, который я держал в руках. С. 48. Осень. Вечер. Улица IV. Редкие прохожие и такси. ПОНТУC видит маленькую собачонку, она бежит домой по мостовой вдоль тротуара, в зубах мясная нога. Из этих слов: Понтус, собачонка, мостовая должен был произрасти фильм, им предстояло оторваться от бумаги и стать движением, картинкой, звуком, и едва я прочитал эти простые слова, составленные в незамысловатое предложение, звучащее негромко, но производящее сногсшибательный эффект, как сразу принял твёрдое решение, я не стал ни обдумывать его, ни взвешивать, а просто принял, понимая, что оно правильное: я решил записать свои грёзы наяву. И я почувствовал глубокую долгоиграющую радость оттого, что решился на это. С почтительным поклоном я вручил страницу 48 режиссёру. Он вырвал её из моих рук. — Пожалуйста, — сказал я. Он и не подумал благодарить. Только махнул рукой, отгоняя меня. Я убежал назад к Педеру, за помойку. Съёмка пошла дальше. Высокий, исхудалый, кожа да кости, мужчина в заношенной одежде, круглых очках и с изнурённым, небритым лицом спустился по той же улице, но на этот раз камера пятилась перед ним, он шёл на оператора, но вдруг встал и стал протирать свои очки, нам показалось, что он разговаривал сам с собой и готов был оспорить каждое слово. — Это, наверно, Понтус, — шепнул я. — Кто? — Понтус, так в сценарии. — Вероятный Понтус пошёл дальше, он ближе и ближе подходил к камере, ещё шаг — и кинется на неё. Тут режиссёр ударил в ладоши, что-то крикнул, и Понтус снова вынужден был проделать всё сначала: спуститься по улице к камере, остановиться, протереть очки, поспорить с собой, причём я никакой разницы не заметил, но ему пришлось повторить всю сцену ещё дважды, прежде чем режиссёру наконец понравилось, и тогда они погасили огни, упаковали своё хозяйство и уехали на грузовике. Мы с Педером выбрались из укрытия. В окнах появились люди. Дворник стал сметать землю с тротуара. Красный почтовый ящик водрузили на место. Лошади процокали в сторону Дворца. Всё расставили по местам, и постепенно улица приняла обычный вид. Мираж какой-то. Мы брели по аллее Бюгдёй, и я радостно предвкушал, как посвящу Педера в то, что жизнь моя совершила крутой и неожиданный вираж в тот самый миг, когда я взял в руки страницу 48 сценария и прочитал размеренные строчки о Понтусе и собачонке, написанные по-датски. Но я ничего не сказал ему, я решил повременить, пока дойду до дома и начну писать, чтоб предъявить товар лицом. — Интересно, куда девалась Вивиан, — сказал я. Мы остановились перед её подъездом и смотрели на окна. Они чернели. Педер кинул каштан и попал. Но не Вивиан чуть сдвинула вбок занавеску, а мама взглянула на нас сверху вниз и мгновенно задёрнула шторы. Педер покосился на меня и вздрогнул. — Тут обрадуешься, что моя всего-навсего не ходит, — сказал он. На этих словах показалась Вивиан, она вышла из-за церкви с другой стороны, и мы бросились к ней. — Ты где была? — закричал Педер. — Гуляла. А до этого маме помогала. — Как помогала? — Вивиан пожала плечами: — Я читаю ей вслух. Если она не может заснуть. — Педер ничего больше не сказал. Я подпрыгивал от нетерпения. — Да ты знаешь, что ты, чёрт возьми, пропустила? — Вивиан коротко взглянула на меня и опустила глаза, вид у неё вдруг сделался несчастный и напуганный, ещё бы, а вы каким станете при маме без лица, которой ещё надо читать вслух? — А что я пропустила? — спросила она. — На Соллигатен снимали кино! С прожекторами, камерой и всем на свете. — Я знаю, — откликнулась Вивиан. — Знаешь? Как знаешь? — В газете писали. Фильм называется «Голод». — «Голод»? Классное название. — Вообще-то это такой роман Гамсуна. Я как раз читаю его сейчас маме. — Вивиан пошла к своему подъезду. У дверей она обернулась: — Наверняка они будут снимать и завтра тоже. Можем попробовать выследить их. — Мы согласно кивнули. Конечно, выследим. Плёвое, в сущности, дело — найти съёмочную группу в городе такого размера. Вивиан засмеялась и снова стала сама собой, как будто играла в фильме, а теперь сняла с себя положенный по роли костюм. — Встречаемся в двенадцать, — сказала она. — Если вы, конечно, не боитесь прогулять школу. Педер молчал, пока мы вместе шли домой, и я помалкивал, думал, что буду писать, отчего для других мыслей места в голове не осталось. Но на прощание Педер всё же сказал кое-что. — Нам надо получше присматривать за Вивиан, — сказал он. — Мы и так хорошо присматриваем, — ответил я. Педер тогда обхватил меня, это было неожиданно. — Доброй ночи, Барнум. А завтра забьём на школу, как нефига делать! — От дома Педера до своего я шёл один, вверх по Киркевейен. Это был странный вечер. У Мариенлюст я остановился и огляделся. Всё окрест было моим. Это мой мир. Улицы, исхоженные мной вдоль и поперёк, лес позади города, небо над крышами. Об этом я теперь и напишу. Здесь поселятся мои герои, Эстер из киоска, Пра, Фред, мама, Педер с Вивиан, Болетта, отец-покойник, всем найдётся здесь место — и живым, и мёртвым. Возник Фред. Он шагал напрямик через газон, шёл по лилипутскому городу, на микроулочках которого мы в своё время постигали премудрости дорожного движения, пересекал крошечные переходы, не толще черты на асфальте, лавировал между миниатюрными домиками, призванными изображать настоящие дома, и когда я увидел его идущим так, мне в голову пришла идея, первый мой замысел. Фред остановился передо мной. — Барнум, ты грустный. — Я думал, — ответил я. — Думал? О чём? О грустном? — Пришлось мне рассказать Фреду всё. — Я думал о том, что напишу, — ответил я. Фред наклонился поближе: — Напишешь? — Я принял решение, Фред. Я буду писать. — И что же? — Сценарии фильмов. — Фред отвернулся в сторону, словно боялся, что кто-то крадётся за ним по пятам. Но кроме нас двоих тем вечером на Мариенлюст не было никого. — Устал я, — сказал Фред, положил руку мне на плечо, и мы пошли так домой. Мама выскочила из гостиной, увидев, что Фред наконец заявился в дом, но он прошёл мимо неё в нашу комнату, не удосужившись произнести хотя бы «привет». — Где ты был? — спросила мама. — Гулял, — ответил Фред и грохнул дверью. — Твоя гулянка тянулась пять дней! — крикнула мама ему в спину и взамен припёрла взглядом меня. — Гулял, — повторил я. И мама тем не менее улыбнулась, она же обрадовалась, что Фред дома, что он вернулся, пусть и через пять дней, потом эта фраза сделалась у нас дежурной, Фред загулял, говорили мы, когда он взял в привычку то и дело исчезать, а потом пропал так надолго, что его объявили умершим, но в тот вечер, сообразил я, первой это сказала Вивиан: гуляла, так она ответила нам. — Тебя ужином покормить? — спросила мама, и я сразу понял, что у неё в самом деле легко на душе. — Спасибо, не надо, — ответил я. — А у нас есть книга под названием «Голод»? — В мамину улыбку добавилось удивление, она повернулась к Болетте, которая и сама встала и тихим ходом двигалась в нашу сторону. — К сожалению, мы её сожгли, — сказала она. — Сожгли книгу? — Видишь ли, Барнум, во время войны писатель вёл себя как последняя сволочь. Так что книги этого предателя оскверняли наш дом. По такой причине мы сожгли полное собрание его сочинений в этом самом камине. — Болетта тяжело опёрлась о моё плечо. Мы с ней стали невелички уже почти одного роста. Она вздохнула горько: — Хотя теперь я жалею. Сволочи тоже хорошо пишут.