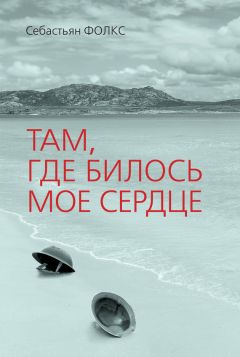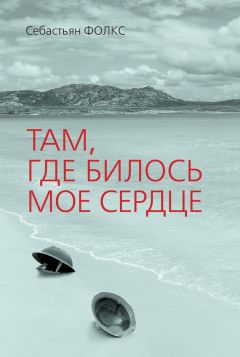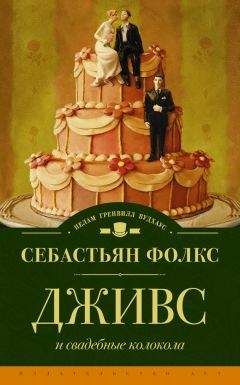Там, где билось мое сердце - Фолкс Себастьян Чарльз
Неужели влюбленность возникает лишь тогда, когда предмет обожания подвергается идеализации, то есть когда к делу подключается фантазия? Я попытался найти ответ у Катулла. Стал листать томик. «Будем жить, моя Лесбия, будем друг друга любить, — призывал гениальный древнеримский повеса, — поцелуй меня тысячу раз» [7].
Я представил, что Мэри Миллер — моя Лесбия. Что я наклоняюсь над ней, поднимаю коротенькую юбочку и осыпаю спящую тысячью лобзаний.
После эпизода в саду я перестал ужинать в школе и спешил домой, надеясь, что наткнусь на Мэри, идущую с автобусной остановки. Примерно через неделю мои надежды оправдались. Я назвался и спросил, как ей идея попить чаю у меня дома.
— Идея классная, — сказала она.
Я на миг остолбенел, потом промямлил:
— Понимаешь, я совсем забыл про мистера Лиддела. Он у меня строгий. Старикану может не понравиться, что я кого-то пригласил… А твои родители, они как?..
— Да никак, — ответила Мэри. — Они раньше шести не появятся. Чай я заварю. Есть хочешь?
Есть хотелось ужасно. Ведь целую неделю без ужина.
— Ну, если это удобно…
Мэри привела меня к себе. Я втянул носом воздух. В нашем с мамой доме пахло свечным парафином и жареным беконом, у мистера Лиддела — табачным дымом и старой обивкой. В прихожей у Миллеров пахло мастикой для паркета, мясным соусом и еще чем-то очень приятным, напоминавшим летучий цветочный аромат.
Мы прошли на кухню. Мэри действовала уверенно и ловко; вмиг наполнила чайник, достала чашки, при этом не прекращая разговаривать со мной. Выглядела она и на шестнадцать, и на двадцать восемь. Личико гладкое как у ребенка, на скулах немного веснушек. Но тело вполне женское — не в смысле какой-то основательности или солидности, а в смысле окончательной завершенности форм. С Мэри было легко и весело. Незадолго до шести мне пришлось уйти, чтобы не нарваться на ее родителей.
Мэри познакомила меня со своими школьными подругами. И вскоре свершилось: я дождался, наконец, приглашения на вечеринку. Мама постаралась привить мне хорошие манеры, поэтому вел я себя более или менее прилично. В числе гостей были и мои одноклассники, явно не рассчитывавшие увидеть меня здесь; я делал вид, что ничего не замечаю, и сохранял невозмутимость. В конце концов, если что-то пойдет не так, с Мэри уж точно можно будет поболтать. Еще была ее подруга Пола Вуд, которой я уделил особое внимание, поскольку уже понимал, что девочки обожают, когда их о чем-то спрашивают, и с большим интересом выслушивают ответы. Непонятно только было, каким образом от дружеской симпатии и сочувствия перейти к чему-то более эротичному. Девчонки были еще слишком юны и простодушны — никакой дразнящей таинственности.
Как-то раз Пола попросила помочь ей с подготовкой вечеринки, родители наконец-то разрешили — уломала. Я пораньше вышел из дому, сел на велосипед и покатил по городу, объехал субботний скотный рынок, потом взобрался на крутой холм, а там уже вырвался на открытое пространство. Пола принадлежала другому, неведомому мне миру. Чтобы попасть в этот мир, надо было с пригородной улочки свернуть на подъездную дорожку, миновать живую изгородь из лавра и бирючины и уже за ней обнаружить солидный добротный дом, окруженный садом с качелями и беседками.
Двери дома Вудов были распахнуты; оттуда выбежали две собаки, посмотреть, кого это принесло; я заглянул в холл, окинул взглядом пустую лестницу на второй этаж. За спиной раздался хруст гравия, это подъехал грузовой фургончик. Изнутри дома донесся перезвон пустых стаканов, задребезжавших на подносах от вторжения грузовичка. Пола с сестрой расставляли свечи в стеклянные кувшинчики вдоль асфальтированной дорожки, которая на границе сада упиралась в кусты рододендронов. Мы соорудили тент на случай дождя: растянули брезент и закрепили деревянными колышками. Из кухни доносились звуки радио: мать Полы, подвязав волосы, жарила, парила, резала и раскладывала по блюдам квадратные и треугольные бутерброды.
Гости прибыли, когда начало смеркаться и на траву упали длинные тени от кипарисов. Долговязые нескладные парни, размахивая сигаретами, зажатыми между пальцев, разговаривали исключительно друг с другом; девочки восторгались платьями подружек. Граммофон поставили у открытого окна гостиной. Зазвучала танцевальная музыка. Пола с сестрой разносили кувшины с фруктовым коктейлем, в который для крепости плеснули похищенного из кладовки джина и вермута.
В окне второго этажа я заметил ее отца, который с опасливым любопытством наблюдал за происходящим. С его точки обзора, наверное, было хорошо видно, как обе группки, державшиеся поодаль друг от друга, вскоре распались и мальчики перемешались с девочками; все держали в руках стаканы. И вот уже на середину лужайки вышли пары и, забыв обо всем на свете, закружились в танце. Я уловил в глазах папаши зависть и почувствовал себя гигантом.
Когда гости стали потихоньку расходиться, Пола предложила мне прогуляться. Мы побрели по дорожке, освещенной догоравшими внутри стеклянных кувшинчиков свечами, миновали так и не пригодившийся тент и сели на заросшую травой кочку. Пола положила голову мне на плечо, как мне показалось, чисто дружески. Устал человек от хлопот и беготни, только и всего. Я коснулся рукой ее бедра, прикрытого легкой тканью, тоже по-свойски, выражая товарищеское сочувствие. Но тут Пола повернула голову так, чтобы я мог ее поцеловать. Ее язычок двигался робко, пальчики крепко стискивали рукав моей рубашки. Она вскочила и взяла меня за руку. Мы двинулись к расчищенному среди рододендронов пятачку, где никто не мог нас увидеть. Пола расстегнула ворот платья и положила мою ладонь себе на грудь. Потом подняла подол, она была без чулок. Тогда я еще не знал, какой нежной бывает кожа. Пораженный контрастом с собственными загрубевшими пальцами, я развернул руку и стал гладить раздвинутые бедра тыльной стороной ладоней. Вот тогда меня внезапно обожгло изнутри. После недолгой борьбы, нет, не со мной, а с собой, Пола отвела мою руку, поцеловала ее и прижала к моему телу.
К тому моменту, когда меня начали волновать темы более занимательные, чем гордость за удачный перевод или претензии к школьной столовке, дневнику исполнилось два года. Я боялся, что он попадется кому-нибудь на глаза, поэтому писал на греческом. Не на греческом языке, конечно, просто греческими буквами. Чтобы никто совсем уж не догадался, о ком идет речь, я позаимствовал имена из мифов. Мэри Миллер была у меня Еленой, старый мистер Лиддел — молодым возлюбленным Афродиты Анхисом, мама — Медеей, а отец, которого я упоминал крайне редко, — Одиссеем.
Для дневника я приспособил толстую, в четыреста страниц, тетрадь с голубой обложкой для домашних работ, забрав ее из школьного шкафа. Ежедневники с пропечатанными календарными числами мне не нравились, их пустые страницы словно бы укоряли за напрасно прожитые дни без записей. Зато тетрадь можно было использовать только по мере надобности. Писал я мелко и аккуратно, надеясь, что этой толстушки мне хватит на два десятка лет, и тщательно ее прятал, хотя даже если кто-то и захотел бы почитать мои записи, ни черта бы в них не понял.
На ночь я читал Библию. Сами по себе изложенные в ней истории были потрясающе интересными, но ореол святости, которым они были окутаны, мешал следить за интригой. Военачальники Иеффай, Иошуа [8] и Гедеон самозабвенно сражались за Иудею и Самарию, отвоевывая земли для израильтян.
В одиннадцать мне полагалось выключать свет, поэтому чтение продолжалось с фонариком под одеялом. У этих древних израильтян рождалось невероятное число незаурядных личностей, неиссякаемый кладезь героев и талантов. И патриархи, и пророки, и воины, и цари…
Весьма любопытно было наблюдать, как менялись отношения между правителями и высшими силами. Авраам и Моисей получали указания непосредственно от Яхве, и никакого недопонимания не возникало. Но более поздние властители, скажем Саул и Давид, полагались на придворных пророков: те выслушивали Господа, а потом передавали Его повеление правителю. Вот когда нарушилась линия прямой связи с главным боссом, дело пошло наперекосяк. Добросовестно изучив сведения о пророках более поздней эпохи, которых никогда не упоминают в церковных проповедях, я обнаружил, что все они — люди простые, но обладавшие нетривиальными способностями. Их преследовали голоса, вещавшие нечто непонятное и призывавшие немедленно исполнить их рекомендации. Ну разве не поразительно: первых пророков чтили, считали самыми влиятельными при дворе людьми, а малые (так их называют) превратились в изгоев, прозябавших на каменистых горных склонах. Мне было искренне жаль всех этих Иезекиилей и Амосов, едва не оглохших от навязчивых голосов, потому что новая поросль правителей пренебрегала их пророчествами.