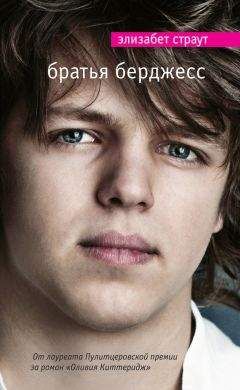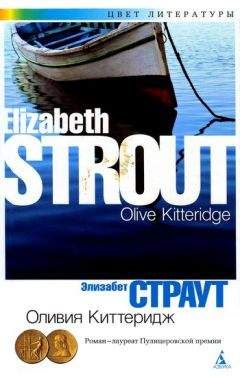Ах, Вильям! - Страут Элизабет
Что касается ее знакомства с Вильгельмом, так звали отца Вильяма (хотя, переехав в Америку насовсем, он стал Вильямом), эту историю мы знали хорошо. Вильгельм был одним из двенадцати военнопленных, работавших на ферме Траска, их поселили в бараках рядом с аэропортом Хоултона и каждый день привозили в поле на грузовике. И как-то раз, через месяц после их приезда, Кэтрин отнесла им пончики, которые приготовила сама, она отнесла им пончики к обеду, ели они у картофельного склада; по словам Кэтрин, их недокармливали, а еще, по словам Кэтрин, Вильгельм так посмотрел на нее, что ее бросило в дрожь.
Но безумно, до беспамятства, Кэтрин влюбилась в Вильгельма в другую их встречу. У картофельного фермера Клайда Траска в гостиной стояло пианино — по-видимому, на нем играла его мать, она умерла незадолго до их свадьбы. Пианино стояло без дела, старая такая модель. И, по словам Кэтрин, как-то раз, когда ее мужа не было дома — он уехал в Огасту, на внеочередную сессию законодательного собрания, — на пороге показался Вильгельм. Кэтрин испугалась, но Вильгельм улыбнулся; на голове у него была кепка, он снял ее, а затем прошел в гостиную, сел за пианино и начал играть.
Вот тогда-то Кэтрин и влюбилась в него — лихорадочно, без оглядки. По ее словам, ничего красивее той мелодии она в жизни не слышала; стояло лето, и окошко было приотворено, и занавеску тормошил ветерок, и Вильгельм сидел за пианино и играл. Играл он Брамса, это она узнала уже потом. Играл и играл, лишь разок-другой бросил на нее взгляд. А потом встал, слегка поклонился — он был высокий, со светло-русыми волосами, — прошел мимо нее к выходу и направился обратно в поле. Она смотрела на него из окна: рукава рубашки туго обтягивали его сильные руки, на спине у него были большие черные буквы В и П, и на нем были старые штаны, какие носили военнопленные, и ботинки, и она провожала его взглядом, а он все удалялся, высокий мужчина с прямой спиной, и один раз он обернулся, лишь на миг, и улыбнулся, хотя с такого расстояния не мог ее видеть, ведь она стояла за занавеской.
Когда Кэтрин рассказывала эту историю, взгляд ее затуманивался, она видела все как наяву: мужчина, переступивший порог ее дома, и снявший кепку, и севший за пианино, и начавший играть. «Так и закрутилось, — говорила она, возвращаясь к нам. — Так и закрутилось».
Как они устраивали свидания, я не знаю, она не рассказывала. Но Вильгельм немного говорил по-английски — для немецкого военнопленного, дала нам понять Кэтрин, это было необычно. Зато она рассказала нам о том дне, когда ушла от картофельного фермера. Это было через год после их с Вильгельмом последней встречи; когда война закончилась, Вильгельма сначала на шесть месяцев по репарации отправили в Англию — устранять ущерб, нанесенный за время войны, — а затем он вернулся в Германию. Они переписывались. Не знаю, догадывался ли об этом муж — картофельный фермер, но Кэтрин как-то сказала мне, что каждый день ходила на почту проверить, не пришло ли от Вильгельма письмо, и что служащий этого маленького почтового отделения в Мэне поглядывал на нее с подозрением — так она сказала. А еще она сказала, что последнее ее письмо — ответ на сообщение Вильгельма, что он теперь в Массачусетсе, в нем Кэтрин писала, что ее поезд прибудет в Бостон на станцию «Северная» в пять часов утра такого-то дня; дело было в ноябре, и земля почти на фут была покрыта снегом, — словом, принеся на почту это последнее письмо, она боялась, что служащий его не отправит. Но он обязан его отправить, рассуждала Кэтрин, и, очевидно, он это сделал. Она рассказала нам, что дождалась, пока к мужу приедет в гости сестра, ей не хотелось оставлять картофельного фермера одного. Меня всегда это поражало.
В остальном я почти ничего не знала о Кэтрин. Когда я спрашивала, каким было ее детство, она просто качала головой. «Ой, не очень, — сказала она как-то. — Но ничего». В Мэн она больше не возвращалась.
* * *
Выждав недельку, я позвонила Вильяму на работу, но разговаривал он со мной неохотно. Я спросила: «Что еще ты узнал?» И он ответил: «Люси, это все полная фигня. Нечего там узнавать». Тогда я спросила, что думает Эстель, а он мне: «О чем?» «О том, что у твоей матери был еще один ребенок», — сказала я, на что он мне ответил: «Люси, мы не можем утверждать, что у нее был еще один ребенок», а я все равно спросила, что думает Эстель, и после паузы он сказал: «Она признаёт, что никакого ребенка не было».
Повесив трубку, я поняла, что Вильям соврал. О чем именно, я не знала. Но было в его голосе что-то лживое, так мне показалось. Я решила больше не звонить ему по этому поводу.
Боже, как я скучала по Дэвиду! Я ужасно по нему скучала. Просто невероятно скучала я по нему. Он знал, как я люблю тюльпаны, и всегда — всегда — приносил тюльпаны домой, даже если был не сезон, он ходил в цветочную лавку и приносил мне тюльпаны.
* * *
В детстве, если кто-то из нас врал — я, или брат, или сестра — и даже если мы не врали, но родители нам не верили, нам мыли рот с мылом. Это далеко не худшее, что происходило с нами в том доме, так что я об этом расскажу. Провинившийся ложился на пол в тесной гостиной — допустим, это была моя сестра Вики, — а двум другим детям, в данном случае мне и моему брату, было велено держать ее за руки и за ноги. Мать шла на кухню и брала полотенце для посуды, затем она шла в ванную и намыливала полотенце, затем Вики высовывала язык, и мать пихала полотенце ей в рот и возюкала там, пока Вики не начинала давиться.
С возрастом я оценила всю невольную гениальность этого приема — сделать остальных детей соучастниками наказания; это разобщало нас, как разобщало нас все, что происходило в том доме.
Когда наступал мой черед ложиться на пол, я не сопротивлялась, как мой бедный брат — его в такие минуты охватывал ужас — или моя бедная сестра — ее в такие минуты охватывала ярость. Я лежала на полу с закрытыми глазами.
* * *
Пожалуйста, постарайтесь понять.
Я всегда считала, что если взять карту мира и воткнуть туда по булавочке за каждого человека на земле, то для меня булавочки не найдется.
Я чувствую себя невидимкой, вот что я имею в виду. На глубинном уровне. Объяснить это очень трудно. Я не могу это объяснить, разве что… Нет, я просто не нахожу слов! Меня будто не существует — пожалуй, можно сказать так. Меня будто нет на свете, вот. Возможно, все дело в том, что в доме, где я выросла, не было зеркал, только одно крохотное зеркальце высоко над раковиной в ванной. Я и сама не знаю, что хочу сказать, но на каком-то фундаментальном уровне я чувствую себя невидимкой.
Супруги, позволившие мне ехать с ними в Нью-Йорк на поезде, когда я застряла в вашингтонском аэропорту, увидели потом мою фотографию в газете и пришли на презентацию моей книги в Коннектикуте. Жена была само очарование, она была со мной очень приветлива, куда приветливее, чем тогда в аэропорту, а все потому — как мне кажется, — что в ее глазах я стала важной персоной. Тогда, в аэропорту, я была всего лишь напуганной женщиной, увязавшейся за ними. Никогда не забуду, как она вела себя со мной на презентации. Моя книга имела успех, и в библиотеке было полно народу. Видно, это ее впечатлило. Но вот чего она никак не могла знать: даже стоя перед полным залом, читая отрывок из своей книги и отвечая на вопросы, я по-прежнему — необъяснимо — ощущала себя невидимкой.
* * *
Каждый год Вильям и Эстель снимали домик в Монтоке, это в самой восточной точке Лонг-Айленда, и проводили там июль и август.
После смерти Кэтрин мы с Вильямом и девочками несколько лет подряд ездили в Монток на неделю в августе; мы останавливались в небольшом отеле и по узкой тропке среди высокой травы ходили на пляж. Мы расстилали на песке пляжные полотенца и устанавливали зонт. Мне нравился пляж, я обожала океан, я смотрела на него и думала, как же он похож на озеро Мичиган и в то же время совсем не похож. Это же океан! Хотя, если честно, те наши поездки вызывают у меня смешанные чувства.