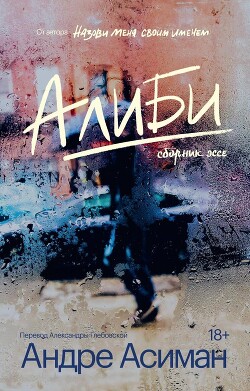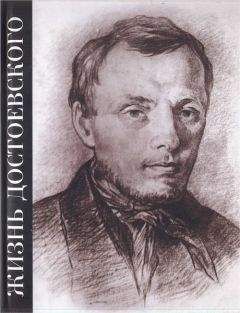Восемь белых ночей - Асиман Андре
В грядущие годы, когда я буду проходить мимо ее дома, я буду останавливаться и поднимать глаза. Не знаю, зачем я буду поднимать глаза, что я каждый раз там буду искать. Но я знаю, что буду их поднимать, потому что вот так вот бесцельно поднять глаза в том ошарашенно-умиротворенном настроении, в котором я пребываю сейчас, – само по себе воспоминание и одушевление, миг благодати. Постою тут недолго – и вспомню так много: ночь вечеринки, ночь, когда мне казалось, что я поступил правильно, попрощавшись и не проторчав слишком долго рядом с ее парадной, ночь, когда я впервые осознал, что мои ночи здесь сочтены. Ночь, когда я понял – просто понял, – что она передумает, как только я скажу: да, я поднимусь с тобой наверх, вечер, когда я смотрел из ее окна и мечтал, чтобы жизнь началась заново, здесь, у нее в гостиной, потому что все пути моей жизни сошлись в этой единственной комнате, где есть Клара, баржа, наш странный язык и чай «эрл грей», где мы сидели и говорили о том, почему эта вещь Бетховена и есть я, и часть моей души приходила к выводу, что я все это придумал только для поддержания разговора, для его оживления, потому что на самом деле я понятия не имел, почему этот квартет Бетховена и есть я, – как не имел понятия, почему сюжеты Ромера и есть я или почему мне хочется провести здесь очень много зимних дней с Кларой в попытке отгадать, почему самое лучшее в жизни зачастую делает два шага вперед и три шага назад.
Я поднял глаза и понял. Все это было там: страх, желание, сожаление, стыд, горечь, боль, изнеможение.
И вот, пока я глядел на дальнюю часть ее дома со стороны Бродвея – горело единственное окно, возможно, в комнате для прислуги, выходящей на парк Штрауса, – мне вдруг пришло в голову, что, хотя у нас здесь никогда ничего и не было, мы, похоже, потеряли здесь абсолютно все, как будто нечто, чего мы так благоговейно желали, сумело превратиться в память о чем-то утраченном, при этом так и не воплотившись в реальность, – желание, наделенное прошлым, но никогда не обладавшее настоящим. Мы здесь были любовниками. Однажды. Когда? Не знаю. Наверное, всегда и никогда.
Я еще раз прошел по Сто Пятой улице – тишина, покой, белые колонны. Особняки глядят на меня с хмурым подозрением.
Ты зачем опять притащился?
Притащился, потому что не знаю, зачем притащился.
Свет у нее горел по-прежнему. И слишком ярко. Чем она, господи, там занимается? Стоит мне высматривать тень – две тени, скользящие за шторами? Подойдет она к окну, когда зазвонит ее мобильник? Только не говорите, что я перепутал окна.
Может, она из тех, кто спит при включенном свете? Или оставила свет гореть, потому что ей нравится возвращаться в освещенную квартиру – я и сам так иногда делаю, чтобы забыть, что живу один. Или она переходит из комнаты в комнату – поэтому и свет во всех окнах? Или зажгла все лампы, потому что терпеть не может сидеть одна в темноте и так вот показывает, что одна и страшно этим недовольна?
Тут кто-то вдруг погасил свет в ее квартире. Она легла в постель. В мозгу мелькнула невыносимая мысль: они легли в постель.
На Сто Шестой я увидел, что свет на кухне все еще горит. Кто же ложится в постель с любовником и оставляет свет на кухне?
Никто.
Если только не в порыве страсти.
Чем она там занимается?
Коньяк? Глинтвейн? Легкая закуска? Как легко люди сходятся друг с другом, как это всегда было легко. Почему же так нестерпимо трудно с Кларой?
Свет на кухне продолжал меня озадачивать.
Что может означать свет на кухне? Сколько раз я включаю и выключаю его у себя, прежде чем лечь спать?
Тут до меня вдруг дошло: я никогда не узнаю, почему свет горел допоздна, никогда больше не увижу эту кухню изнутри. Внезапно свет на кухне показался далеким маяком, еще более немилосердным, чем сам шторм.
Борис!
Он вышел на холод покурить, постоял, глядя в пустоту, потом метнул окурок на середину улицы. Я сделал все, чтобы он меня не заметил.
Едва он ушел обратно в вестибюль, как я перешел улицу и зачем-то направился к Сто Седьмой.
Нельзя слишком долго стоять на тротуаре. Она может выглянуть в кухонное окно и перехватить мой взгляд, приклеенный к ее окнам. Да и сейчас она, может, стоит и смотрит прямо на меня. Или их там двое. Так что мимо я прошел стремительно. Однако, слишком быстро оказавшись у конца ее дома, я понял, что больше идти некуда, а потому, чем тащиться до Бродвея и обратно, я зашагал назад по Риверсайд, зашагал медленно, потом еще раз до Сто Пятой, снова до Сто Седьмой, туда-сюда, снова и снова, с деловитым видом, не соображая, что никто и никогда не станет с деловитым видом шляться восемь раз подряд по Риверсайд-драйв в самый глухой час ночи.
Моя пассакалия, скажу я ей когда-нибудь, не прелюдия Лео, не твои сарабанды или фолии, не «Адажио» Бетховена. А моя пассакалия, мои проходы туда-сюда, с погружением в безумие.
Может, стоит позвонить, подумал я. Говорить не буду. Просто напомню, что я еще не совсем исчез из ее жизни. Один гудок, потом разъединюсь. Но я прекрасно знал: если я ей позвоню и обнаружу, что это не так уж сложно, меня потянет позвонить снова. Именно этим и занимался Инки. На первый звонок решаешься долго, второй раз звонишь двадцать минут спустя, потом каждые пять минут, потом непрестанно. Ели она захочет со мной поговорить, если она одна, она перезвонит. Если не перезвонит – что ж, либо она отключила телефон, либо не расположена играть в эти игры. В итоге она попросит его снять трубку и – кто бы там ни звонил – сказать ему, что она в Чикаго. Скажи, что я в Чикаго.
Я их подтолкнул к тому, чтобы переспать?
Вдруг свет в гостиной зажегся снова.
Не может уснуть. Злится. Не в себе.
Нужно позвонить, правильно?
А если она знает, что я внизу? Она из тех, кто может уловить это чутьем. Знает, что я прямо сейчас внизу.
Или того хуже: может, она хочет, чтобы я гонял все эти мысли в голове, включая и самую худшую: а что, если она и вовсе обо мне не думает?
Тут свет погас.
Лишь бледное голубое свечение возле ее окна. Ночник? Неужели Клара из тех, кто пользуется ночниками? Или это смутный ослабленный неверный свет из другой комнаты – или отражение вывески по соседству? Свеча? Ну уж нет, точно не свеча и не светильник. У Клары Бруншвикг не может быть никаких светильников!
Ах, предаваться с Кларой Бруншвикг любви при свете светильника.
Нуарово-нуаровые мысли.
В ту ночь я ей не позвонил. Утром проснулся от легкого постукивания по оконной раме: капли дождя, робкого и застенчивого, без истерической самоуверенности ливня – этакий дождик в августовский день, который может в любой момент перестать и вернуть мир в состояние несколькими минутами раньше. Казалось, уже полдень. Я бы не возражал проснуться через полгода. Пусть время разбирается со всем этим вместо меня.
Спал я урывками, странные видения носились по пустырю под названием «сон», но я ни одного не запомнил, осталось лишь общее ощущение, которое висело дымовой завесой над выжженным ландшафтом после большого пожара. Ближе к рассвету я почувствовал стремительные толчки в груди – из-за таких же я вчера помчался в больницу. Потом я, похоже, снова заснул. Раз уж суждено умереть, так лучше во сне.
К утру я понял в точности, что со мной. Меня это не удивило: удивило, сколь яростно, с каким безоглядным напором оно происходило во всех частях моего тела. Не придумаешь никакой околичности, сомнения, тумана, чтобы дать этому менее жесткое название. Это не причуда. Это – повеление, родившееся где-то в полусне, прокравшееся из одного кошмара в другой и наконец-то выкарабкавшееся утром на свет. Я хотел ее и больше ничего в этом мире. Я хотел ее без одежды – бедра обвились вокруг моих чресл, глаза в глаза, улыбка, проникнуть в нее до последнего дюйма. «Глубись, глубись, Князь, глубись, и еще раз, и еще много-много раз», – говорила она в моем сне на языке, который казался английским, но мог быть фарси, французским или русским. Вот все, чего я хочу, а не хотеть этого – все равно что смотреть, как жизнь вытекает из моего тела, а вместо нее мне прямо через шею вливают подложную сыворотку. Она меня не убьет, я выживу, все пойдет как прежде, я точно поправлюсь, но без нее – все равно что смеяться и пить, глядя, как всех тех, с кем я вырос, ведут на виселицу и вздергивают, пока не настанет моя очередь – а я так и буду смеяться.