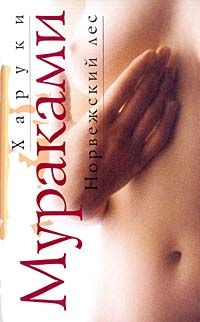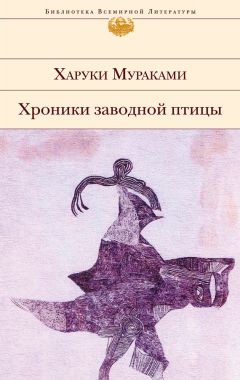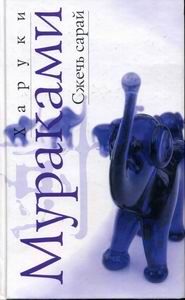Норвежский лес - Мураками Харуки
— Ведь ты эту пластинку Наоко подарил?
— Да. На Рождество в позапрошлом году. Она очень любила эту мелодию.
— Я тоже. Такая добрая и красивая… — Она повторила еще раз несколько пассажей и отпила вина. — Ну что, сколько я успею сыграть, пока не захмелею? Слышь, а ведь совсем не грустная панихида, верно?
Рэйко заиграла «Битлз» — сначала «Norwegian Wood» и «Yesterday», затем «Michelle» и «Something», «Here Comes The Sun» и «Fool On The Hill». Я выложил семь спичек.
— Уже семь, — сказала Рэйко, отпила вино и закурила. — Эти парни наверняка знали всю горечь и доброту жизни.
Этими парнями, конечно же, были Джон Леннон и Пол Маккартни, а вместе с ними и Джордж Харрисон.
Несколько погодя, она затушила сигарету и опять взяла в руки гитару. Следующими были «Penny Lane», «Black Bird», «Julia», «When I’m Sixty Four», «Nowhere Man», «And I Love Her», «Hey, Jude».
— Сколько уже?
— Четырнадцать, — сказал я.
— Уф-ф, — вздохнула Рэйко. — Может, сам сыграешь?
— У меня плохо получается.
— Ну и что?
Я принес свою гитару и очень неуверенно, но все же сыграл «Up On The Roof». Рэйко тем временем передохнула и неспешно покурила, выпила вина. Стоило мне закончить, она захлопала в ладоши.
Затем из-под ее пальцев нежно и красиво зазвучали «Павана на смерть инфанты» Равеля и «Лунный свет» Дебюсси.
— Я разучила эти мелодии уже после смерти Наоко, — сказала Рэйко. — Ее музыкальные пристрастия так до конца и не оторвались от сентиментализма.
И она сыграла несколько композиций Бакараха — «Close То You», «Raindrops Keep Falling On My Head», «Walk On By», «Wedding Bell Blues».
— Двадцать, — сказал я.
— Я прямо ходячий музыкальный автомат, — весело сказала Рэйко. — Увидели бы все это мои бывшие преподаватели консерватории, их бы перекосило.
Она отпила вина и с сигаретой в зубах играла одну за другой все, что знала: около десятка мелодий боссановы, Роджерса и Харта, Гершвина, Боба Дилана, Рэя Чарлза, Кэрол Кинг, «Бич Бойз», Стиви Уандера, «Ue-wo muite arukou» [63], «Blue Velvet», «Green Fields», — в общем, все подряд. Иногда закрывая глаза, склоняя набок голову, напевая про себя.
Когда закончилось вино, мы пили виски. Я выплеснул вино из бокала на гранитном фонаре в саду и наполнил его виски.
— Сколько уже?
— Сорок восемь.
Сорок девятой Рэйко сыграла «Eleanor Rigby», пятидесятой — повторила «Norwegian Wood», после чего дала отдохнуть рукам и просто пила виски.
— Пожалуй, хватит.
— Вполне, — ответил я. — Более чем достаточно.
— Вот, Ватанабэ. Постарайся забыть о печальных похоронах, — сказала Рэйко, глядя мне в глаза. — Помни только эти. Ведь, хорошо было, правда?
Я кивнул.
— Напоследок, — сказала Рэйко и сыграла пятьдесят первой свою любимую фугу Баха.
— Слышь, Ватанабэ, позанимаешься со мной этим? — тихо сказала Рэйко, окончив играть.
— Странно. Я тоже об этом подумал.
В темной зашторенной комнате мы с Рэйко обнимались, словно так и должно было быть, и хотели друг друга. Я раздел ее, снял рубашку, брюки и трусы.
— Знаешь, я прожила странную жизнь, но даже представить себе не могла, что с меня будет снимать трусы мужчина на девятнадцать лет моложе.
— Я не настаиваю.
— Ладно, снимай, — сказала она. — Только не расстраивайся, увидев мои морщины.
— Они мне нравятся.
— Сейчас запла́чу, — прошептала Рэйко.
Я целовал ее тело, а когда попадались морщины, обводил языком их линии, дотрагивался рукой до почти плоской, как у подростка, груди, мягко покусывал соски, вставил палец в теплую влажную вагину и начал им двигать.
— Слышь, Ватанабэ. Не туда. Там — простая морщина.
— Все бы шуточки, да? — изумился я.
— Извини, — сказала Рэйко. — Страшно… мне. Давно этим не занималась. Я сейчас как семнадцатилетняя девчонка — пришла в общагу к парню, а он раздел ее догола.
— А мне кажется, будто я действительно насилую семнадцатилетнюю.
Я вставил палец в эту «морщину», я целовал шею и уши Рэйко, пощипывал соски. Когда ее дыхание участилось и тихонько задрожало горло, я раздвинул ее стройные ноги и медленно вошел внутрь.
— Как, нормально? Только смотри, чтобы я не забеременела, — тихо сказала Рэйко. — Стыдно в таком возрасте ходить с животом.
— Все в порядке. Можно не беспокоиться.
Пенис вошел до упора — она задрожала и вздохнула. Лаская ее, нежно поглаживая по спине, я сделал несколько движений и вдруг кончил. Стремительная, безудержная эякуляция. Я прильнул к Рэйко, и в эту теплоту из меня несколько раз вырвалась сперма.
— Не удержался… — сказал я.
— Дурашка, не забивай себе голову, — шлепнув меня по заду, сказала Рэйко. — Или ты думаешь об этом всякий раз, когда спишь с девчонками.
— Ну… да.
— Пока ты со мной, можешь не думать. Забудь. Кончай, сколько и когда захочешь. Как настроение? Лучше?
— Намного. Поэтому не утерпел.
— И не нужно терпеть. И так нормально. Мне тоже было очень хорошо.
— Я вот что думаю…
— Что?
— Еще не поздно в кого-нибудь влюбиться. Рано ставить на себе крест.
— Я подумаю… об этом, — сказала Рэйко. — Интересно, в Асахикаве люди занимаются любовью?
Немного погодя я опять ввел отвердевший пенис. Рэйко вдохнула и зашевелилась подо мной. Обняв ее, я потихоньку двигался и разговаривал с ней обо всем на свете. Как это было замечательно — разговаривать, находясь у нее внутри. Я шутил, она прыскала, и сотрясения ее тела передавалась пенису. Мы долго лежали обнявшись.
— Так очень приятно.
— Двигаться тоже неплохо.
— Ну-ка попробуй…
Обняв ее за талию, я вошел до самого упора и начал вращать телом, кайфуя от этого ощущения, и в завершение всего с наслаждением кончил еще раз.
В конечном итоге, меня хватило в ту ночь на четыре раза. После четвертого Рэйко, закрыв глаза, глубоко вздохнула, и ее тело несколько раз едва заметно сотряслось.
— Мне до конца своих дней можно больше этим не заниматься, — сказала Рэйко. — Ну, скажи? Пожалуйста? Мол, успокойся, ты исчерпала свою долю оставшейся жизни.
— Кто знает? — сказал я.
Я предлагал полететь на самолете — и быстрее, и удобней, но Рэйко настаивала на ночном поезде.
— Мне нравится паром Аомори-Хакодатэ [64]. Не хочу я лететь, — сказала она.
Я проводил ее до станции Уэно. Она держала в руке гитарный чехол, я — дорожную сумку. Сидя на платформе, мы дожидались поезда. Она была в том же, в чем приехала в Токио, — твидовый пиджак и белые брюки.
— Как ты считаешь, Асахикава — не сильно плохой город?
— Асахикава — хороший город.
— Серьезно?
Я кивнул.
— Я напишу.
— Мне нравятся твои письма. Хотя Наоко их все сожгла. Такие хорошие были письма.
— Письма — всего лишь бумага, — сказал я. — Жги их, не жги, что должно остаться — останется, что нет — то нет.
— Если честно, мне… очень страшно. Ехать одной в Асахикаву. Поэтому пиши, ладно? Читаешь твои письма — и кажется, будто ты всегда рядом.
— Раз так нравятся, напишу, сколько угодно. Хотя можно не беспокоиться. У такого человека, как Рэйко, все будет нормально.
— Вот еще что. Такое ощущение, будто внутри у меня что-то переворачивается. Или это иллюзия?
— Остаточные воспоминания, — хмыкнул я. Она тоже засмеялась.
— Не забывай меня.
— Не забуду. Никогда.
— Пожалуй, мы с тобой больше не встретимся, но где бы я ни была, всегда буду помнить тебя и Наоко.
Рэйко посмотрела мне в глаза. Она плакала. Я не удержался и поцеловал ее. На нас глазели какие-то пассажиры, но мне уже было все равно. Мы живы и нам нужно думать только о том, как продолжать жить дальше.
— Будь счастлив, — сказала на прощанье Рэйко. — Я… посоветовала тебе все, что могла. Больше мне сказать нечего. Кроме одного — будь счастлив. Будь счастлив за нас троих: меня и Наоко.