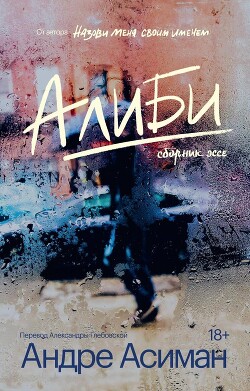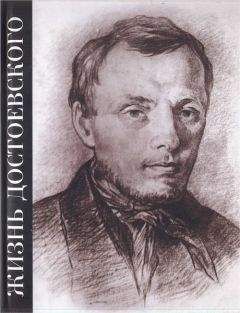Восемь белых ночей - Асиман Андре
– Можно напрямик? – Получается, она не позволит мне вклиниваться в то, что уже начала говорить. – Вчера днем, когда ты пришел, я могла бы тебя попросить, и я знаю, что ты бы ответил «да» – но это было бы вынужденное согласие, вот как если бы ты настаивал после того, как вчера вечером попытался меня изнасиловать и избить, – да, я могла бы согласиться, но это было бы тоже такое вымученное «да». И все равно, когда мы вчера вышли из бара, ты знал, что я колеблюсь, – не отрицай этого.
Я собирался изобразить удивление. Она не позволила.
– Не трудись. Ты знал.
Я, если честно, не ожидал такой откровенности. Она раскрыла все карты, и я вдруг почувствовал, как по телу прокатилась волна тревоги, ведь я пока не понимал, собирается ли она высказать вслух все то, что мы тактично обходили молчанием все эти вечера, или просто вознамерилась выпотрошить меня и выставить пустым и пошлым лицемером, каким я всегда и был.
– А почему вынужденное согласие, если ни один из нас не против? – вставил я.
– Потому что мы оба знаем, что нас что-то сдерживает, но ни ты, ни я не понимаем до конца, что именно. Будь для меня это менее важно, я бы сказала: не хочу, чтобы меня обидели, – но мне сто раз плевать, обидят меня или нет, и столько же раз плевать, обидишься ли ты. Будь это для меня менее важно, я бы добавила: оно погубит нашу дружбу. Но и на нашу дружбу мне плевать с высокой колокольни.
– Я думал, дружба между нами все-таки существует – или зарождается.
– Дружбы – для техдругих; ни тебе, ни мне не нужна дружба. Для этого мы слишком близки.
Значит, никакой надежды нет? У меня в мозгу внезапно осталось одно словосочетание: «разбитое сердце». Ты разбиваешь мне сердце, Клара, твои жестокие безжалостные слова порождают сердечную боль и рвут кровеносные сосуды. Сердце действительно колотилось. Все это было так грустно, что впервые в своей жизни я едва не заплакал из-за того, что женщина ответила мне отказом, даже не дав возможности ее о чем-то попросить. Или я уже попросил? Я ведь уже несколько дней только и делаю, что прошу. Неужели мужчинам случается вот так плакать, и если да, где же я-то был всю свою жизнь? Я за это возненавижу тебя навеки, за то, что ты подвела меня к этой пропасти, вынудила в нее заглянуть – так заключенного вынуждают присутствовать при жестокой казни сокамерника, а потом – а не до этого бесчеловечного зрелища – объявляют, что его никто казнить не собирается и вообще он свободен.
Она, видимо, заметила. Возможно, не далее как сегодня уже видела слезы Инки.
– Не надо, пожалуйста, – произнесла она, как и в прошлый раз, – потому что начнешь ты – начну и я, а когда это случится, все знаки спутаются, все системы откажут, и мы окажемся даже не там, где начался этот разговор, а в точке намного раньше.
– Может, именно там я и хочу оказаться. Там, куда ведет этот разговор, мне явно не понравится.
– Почему? Ты же не удивился. Я не удивилась.
Меня озарило еще до того, как я понял, что происходит. Это будет совершенно не к месту, может свести все наши слова на противный, ущербный уровень, но терять мне нечего – ни достоинства, ни оружия, ни воды в полой тыкве, – и я почувствовал, что оно того стоит: бросить последние остатки гордости в огонь, как очень холодным днем замерзающий богемный поэт швыряет рукопись в топку, чтобы согреться, обрести любовь, презреть искусство, показать кукиш судьбе.
– Давай говорить прямо, – предложил я. – Тебя просто ко мне не тянет. Скажи как есть: физическая составляющая отсутствует. Я тебе не подхожу. Так и скажи. Меня это не убьет. Зато внесет ясность.
– Всё тебе игрушки, даже серьезный разговор. Физическая тяга тут ни при чем. Скорее именно потому, что меня к тебе тянет, мы и зашли так далеко.
Вот это новость! Неужели я понял ее настолько превратно – нужно вот так швырять мне это прямо в лицо, или она в свою очередь играет со мной, разыгрывает первую попавшуюся карту, главное – уклониться от молчания, которое ей, видимо, столь же невыносимо, как и мне.
– Ты, видимо, считаешь, что мне это должно льстить, – сказал я.
Я иронизировал. Или хотел, чтобы она повторила то же самое внятным простым языком.
– Лесть тут ни при чем. Плевать я хотела на лесть, и ты тоже. Не она нам нужна.
– Ты что, действительно знаешь, чего хочешь?
– А ты?
– Вроде бы да. С самого начала хотел, и тебе это известно.
– Врешь. Ты стучишь в дверь, но хочешь ли, чтобы тебе открыли, – большой вопрос.
– А ты?
– Я не стучу. Я ее уже открыла. Но сказать, что переступила порог, не могу.
– Может, дело в том, что ты мне не доверяешь.
– Может быть.
Тут до меня дошло.
– Ты ведь не боишься, что тебя обидят, отвергнут? – спросил я. – Тебя страшит то, чего ты можешь не обнаружить за этой дверью. Ты боишься разочарования.
– А ты нет? – спросила она тут же, как будто предвидела мой вопрос.
– До жути, – ответил я. Я преувеличивал.
– До жути, – повторила она. – Вот это уже не льстит ни мне, ни тебе, верно? А может, мы просто два этаких взрослых труса. Обыкновенные трусы.
Это направление разговора мне тоже не нравилось.
– Жуть жутью, но я все-таки скажу, – продолжил я. – Я думаю о тебе все время. Все время, все время, все время. Это неоспоримый факт. Я страшно счастлив, что сейчас такая волшебная праздничная неделя из шара, где идет снег, – я провел с тобой все эти дни до последней минуты. Ем с тобой, моюсь с тобой, сплю с тобой. Подушка уже устала слушать твое имя.
Ее это, кажется, не удивило.
– Ты называешь ее Кларой?
– Я называю ее Кларой, рассказываю ей то, чего никому в жизни не рассказывал, и, если бы выпил сегодня побольше, наговорил бы тебе такого, что завтра не смог бы смотреть тебе в лицо.
Тяжелое молчание сообщило мне, что я переиграл и допустил непоправимую ошибку. Как теперь сдать обратно?
– Если хочешь знать, со мной почти так же, – сказала она, явно превозмогая себя, голос ее сдерживало что-то вроде неотступного горя – эквивалент беспомощного пожатия плечами в тот миг, когда иссякли слова. Она прикидывается? Или повышает ставки? – Я твержу твое имя, когда остаюсь одна.
Это та девушка, которая не поет в душе?
– Почему же ты раньше ничего не говорила? – спросил я.
– Ты сам ничего не говорил, мистер Амфибалентность, Человек Третьей Двери.
– Я играл по твоим правилам.
– Каким именно?
Я посмотрел на нее озадаченно. Сдерживание, перекрытые дороги, подспудные предостережения – их, что ли, не было?
Принесли картошку. Она выдавила на нее целый тюбик кетчупа, а потом и второй. Собиралась что-то сказать. Но, прежде чем заговорить, взяла большим и указательным пальцем ломтик и, пока он дожидался помазания кетчупом, рассматривала его, явно уйдя в мимолетные мысли и сомнения, будто бы ломтик стал амулетом, священной реликвией или фрагментом мощей ее святого покровителя, которого она попросила проводить ее по этому непростому пути.
– Скажу вот что: твое право верить или нет, смеяться надо мной или нет, но я готова идти с тобой до конца, – сказала она. – Днем я ушла от тебя с мыслью, что совершаю величайшую ошибку в своей жизни, потому что мне казалось: ее уже не поправишь. Как только я увидела Инки, поняла, что сбегу от него под первым же предлогом, хотя и не знала точно, что отыщу тебя, что ты будешь один, но рискнула и пришла. Послала тебе миллион сообщений, можешь сам проверить.
Я не проверял именно по этой причине: боялся, что не будет ни одного.
– Я все надеялся, что ты позвонишь, именно поэтому в конце концов и отправился в спортзал.
– Безупречная логика, да? И тейлефон, надо думать, по той же причине выключил.
Отпираться было бессмысленно.
– Все как я сказала, Князь: я готова.
Я не понял, что именно она имеет в виду, а спросить побоялся. Ясно было одно – в этой фразе звучит дерзко-напористое: теперь твой ход.
– Можешь просто поцеловать меня, без всяких пререканий?