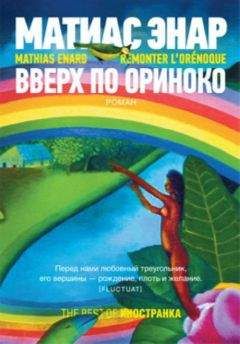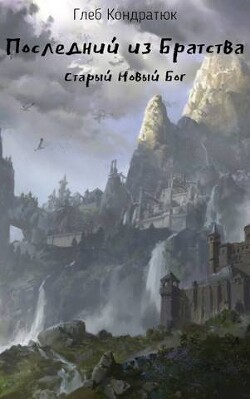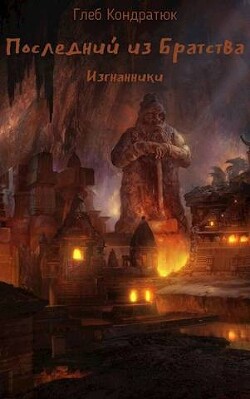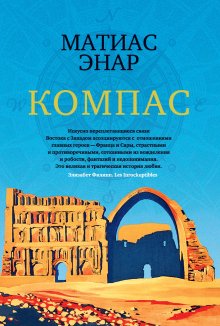Ежегодный пир Погребального братства - Энар Матиас
Мы жили, радости деля!
Живите! Я же вас оставлю.
Не для меня теперь меха
и замша мягкая, живая,
И не накину больше я
на плечи плащ из горностая.
Какие трогательные слова, подумал Арно. Грезя, он воспринимал всю огромную паутину душ, запутанный клубок существований, сплетающихся во времени, и, словно вытягивая оттуда по нитке, мог проследить чью-то жизнь, мог перескакивать из одного мига в другой и даже, взмывая в безбрежное небо, наблюдать могучие силы, что движут звездами, необъятные темные потоки, черные штрихи небытия. Во сне Арно обладал безграничным знанием — он видел вокруг себя все множество живой жизни, бесконечные перевоплощения — своего пса, деда, пауков, мошек, вплоть до самых страшных невидимых слоев — бацилл, инфузорий, безглазой тьмы микроскопических существ, что рождаются и умирают в безмерном и никому не ведомом страдании; и Арно сочувствовал всем им и понимал, как они мучаются, хотя такое провидение тоже было сродни страданию: часто, пробуждаясь от снов, он чувствовал тяжесть, тоску и долго мотал головой, — сны надо было скинуть с себя, как стряхивают налетевший пепел.
Открыв глаза, он увидел, что дед все так же сидит рядом и только что положил в огонь новое полено. Арно почесался, понюхал локоть, словно заново осваивая привычное тело; уже смеркалось, оранжевый отблеск пламени окрашивал всё — стены, стол и даже лицо деда, казавшееся длиннее, чем всегда; дедуля, а можно ловить раков, если снег?
Арно собрался сесть на велосипед и отправиться ловить раков; он обожал ловить луизианских раков на заброс. Арно заманивал членистоногих на собачий корм в сетку из-под лука, вставленную в кусок рабицы, — и чистое удовольствие было смотреть, как с наступлением темноты, едва забросишь садок в воду, в него наползают десятки раков и начинают драться за наживку, отпихивать друг друга, а если поднять садок, то видно, как они копошатся на дне, невероятно радуя Арно — ему нравилось играть с этими уродцами, щекотать им клешни с красными точками на концах; не было тварей прожорливей, и при нехватке пищи раки начинали жрать сородичей.
Старик, по обыкновению, ничего не ответил, только захохотал: идея ловить кого угодно в такую метель казалась ему смешнее некуда — и кстати, он был прав: при стылой воде луизианские раки уходят в длинные норы, вырытые под берегом, и почти из них не показываются.
Арно читал людей, как книгу — с листа: он один знал, что дед его прежде был, в произвольном порядке, батраками и батрачками, птичницами, бродягой-браконьером, несколько раз косулями, собакой, скворцами… или что он сам, Арно, так здорово разбирается в механике оттого, что в нем однажды возродился автослесарь из Вилье и оставил ему в наследство рабочую сноровку, — он мог изучать этот жизненный опыт и воспоминания, перелистывать их и прослеживать, словно водя пальцем по линии жизни на знакомой ладони. Арно видел переживания и печали, удары и радости, которые метили душу, точно морщины — лицо, и воспринимал свой чудесный дар как нечто естественное; он слышал жизнь деда, как слышат родник, журчащий по камням, чаще всего не замечая отдельно шороха переворачиваемой гальки, но по желанию мог и вслушаться, и на миг заинтересоваться каким-то эпизодом чужой жизни — Арно любил далекие отголоски битв, буйство стали и клинков; сам он пал (в одну из своих бесчисленных смертей) в давно забытой баталии, где-то у берегов реки Клен, на римской дороге, ведущей в Тур, в середине сто четырнадцатого месяца поста от Хиджры, всего через столетие после смерти того бородатого пророка, что основал в далекой Аравии веру, бывшую царством и образом жизни, в которой бывшие рабы становились военачальниками и не имели другого господина, кроме Бога. Тысячи воинов с женами, шатрами и конями, тысячи бойцов прибыли из нового Аль-Андалуса под командованием правителя Абд ар-Рахмана, — и неизвестно, зачем шли эти воины из мусульманской Испании — грабить запиреней-ские земли или подчинять их исламскому халифату. Стоило Арно произнести: «14 октября 732 года, битва при Пуатье» — и он сразу слышал ржание коней, звон ятаганов, свист стрел в осеннем небе и вопли раненых, что падали и умирали, обагряя римскую брусчатку кровью мучеников, и тут же понимал, что сам гибнет в ледяной реке, сброшенный в воду атакой мавров и приконченный их стрелой, — Арно не видел исхода битвы, ставшей одной из известнейших в истории Франции, — правда, нет твердой уверенности, что она кончилась победой, хотя она и позволила Эду Великому, сыну Волка, герцогу Аквитанскому, сохранить свои владения, а Карлу Мартеллу — обрести бессмертную славу. Сарацины — как виделось Арно — оставили в окрестностях его родного села (между строем тополей и болотами, между Отизом и Севром, между ясенями и зарослями шиповника) стрелы, ятаганы и шатры, какие-то напевы, какие-то воспоминания и через несколько лет, во времена Карла Великого, вернулись, ведомые преданием и королем Агулантом, после взятия Ажена; сарацины, мавры, моавитяне, эфиопы, турки и персы объединились на западе, и Карл Великий дал им бой против города Тайлебура возле Сента, где мавры захватили замок. Накануне великой битвы случилось чудо; франки, как обычно, на ночь составили копья возле палаток, а утром обнаружили, что древки пустили корни, обросли корой, а некоторые даже покрылись листьями: то были копья тех, кого ждала мученическая смерть за веру Христову. Будущие мученики кинулись в бой со всей силой, ниспосланной Господом, и, прежде чем пасть, унесли жизнь многих сарацин: четыре тысячи в тот день полегли за веру, и сам Карл Великий оказался в великом затруднении, и конь под ним пал. Наконец король Агулан обратился в бегство по реке, именуемой Шаранта, и там же погиб гордый рыцарь Магомета король Беджайский, утонув вместе со своим скакуном, и был похоронен лицом к Мекке на ближнем холме, прежде чем остатки войска ушли за шлюзы и отступили в сторону Памплоны.
Арно видел все это и многое другое, сидя возле деда и глядя на горящие в камине дрова, — а телевизор он смотреть не любил, потому что экран подставлял вместо образов, живших внутри него, другие картинки, не такие красивые, не такие яркие, не такие живые, как блики на волнах Севра или Шаранты, когда река словно вспыхивает пурпуром зимнего заката; огни пламени рисовали ему подвесной рошфорский транспортный мост, устье реки и змеящиеся полосы водорослей на отливе, реактивные самолеты с ближайшей авиабазы, которые гонялись друг за другом в небе над островами, совсем как стрижи, арсенал, где когда-то плелись искусные нити канатов, стапели, в которых отдыхали корабли, пока им конопатили щели в корпусе и чинили оснастку, прежде чем снова отправить их спорить с волной; он видел громадный военно-морской госпиталь, теперь лежащий в руинах, но где когда-то умирали моряки от экзотической лихорадки и гнилой гангрены, и запах больших палат, по рассказам, был даже еще невыносимей, чем стоны умирающих, хотя и пытались его перебить смоляными лампадами, мазями и притираниями; он отводит взгляд от острога, где содержались каторжники, — сколько их, бурлаков, надсаживалось под ударами хлыста и тащило суда от порта к морю, он не хочет смотреть и на жуткие плавучие тюрьмы, где умирали от тифа священники, согнанные в темницу плотной толпой, кишащей, как черви на их сутанах, но не покорившиеся Революции, о которых Республика не хотела вспоминать и чьи кости белеют на отмелях Иль-д’Экса или Иль-Мадама; ему случалось зависнуть над площадью Кольбера, любуясь великолепным фонтаном, где сливаются воды седого океана и зеленой Шаранты — двух статуй из песчаника, — затем он пускался бродить по кварталу, где широкие ровные улицы классических домов пересекали маленькие улочки с невысокими домами, доходил до строгого фасада, за которым скрывался безумец Жюльен Вио, влюбленный в странствия, флотский офицер, ставший писателем под именем Пьера Лоти, сын одного из редких протестантов Запада, уцелевших после преследований, — Арно совершенно не знал Пьера Лоти — писателя, научившего современниц мечтать об экзотических браках и запретной любви, скрытой ставнями турецких гаремов; он знал лишь Пьера Лоти-сумасброда, превратившего свой строгий рошфорский особняк во что-то немыслимое: мраморные лестницы, высокие стрельчатые готические окна, громадный камин, резные деревянные панели, тяжелые драпировки… застрявшего в детстве Арно здесь все поражало и притягивало, это был театр, декорация для тех маскарадов, что Лоти устраивал в 1890-е годы и посвящал то Карлу VII, то Людовику XI, где говорили на старофранцузском, где дамы, увенчанные куафами и вуалями, и мужчины, обутые в остроконечные шоссы, в накидках из горностая, в окружении гончих псов, лежащих у ног, ели руками ежа-тину или бельчатину и кромсали ножом спину лебедя, чья белая шея топорщилась грязными перьями — под звуки волынок и лютней.