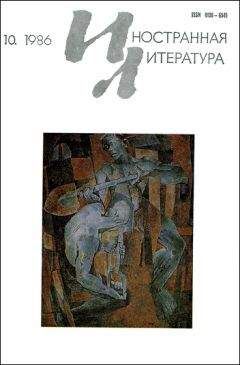Полубрат - Кристенсен Ларс Соби
Не следовало маме пережимать. В учебнике по физиологии ни слова не говорилось о том, что с пищей во рту нельзя ходить или даже бегать. Я подхватил ранец и дунул вниз по Киркевейен раньше, чем они успели кинуть мне в окно дождевик. Эстер открывала свой киоск и держала в охапке журналы, но исхитрилась и помахала мне, все всегда приветствовали Эстер взмахом руки, значит, я не стал, а поглубже засунул кулаки в карманы и пошагал вниз к Майорстюен, сутулый, с полным ртом сыра, эдакий пеликан, который тащит в клюве корма на целый год, а думал я о том, что так меня вытурят не только из страны и школы танцев, но из мира, как говорится, сживут во свету, что и решит все проблемы разом, но посреди этой мысли мне резанула глаза своей белизной церковная стена, она ослепила меня сквозь сетку дождя, я даже зажмурился, а потом остановился перед храмом, перегрузил запас сыра в сточную канаву и вывалил язык наружу, чтоб дождь его промыл. За этим наблюдал мужчина, стоявший на лестнице, ведущей к широким дверям, и таращившийся на меня из-под зонтика. Размытые дождём, белели его лицо и пальцы, и улыбка до ушей, а на шее у него был воротник, белый же воротник, сливавшийся воедино с оплывшим подбородком, и мне подумалось, что всё в этом человеке, стоявшем на третьей ступеньке лестницы церкви на Майорстюен, было чёрно-белым: лицо, зонт, руки, воротник, зубы — так выглядел пастор, не соизволивший окрестить ни Фреда, ни меня. — Что это у нас здесь за благовоспитанный молодой человек? — спросил он, спускаясь на одну ступеньку, вроде бы желая рассмотреть меня получше. — Как тебя зовут? — Часы над его головой, на высокой белой оштукатуренной стене, увитой, как тонкими раскалёнными проводками, диким виноградом, показывали уже половину девятого. До опоздания в школу осталось потянуть всего ничего. Пастор перегнулся через перила. Он возвысил голос, но слышал я его и так прекрасно. — Это ты мне язык показываешь? — Зонтик рвался у него из рук, норовя завернуться вверх и превратиться в чёрную чашу для сбора дождя. Теперь пастор не улыбался. Стиснутые губы скрывали зубы. — Нет, ты действительно показываешь мне язык?! — Он сложил зонтик и, сам уже весь мокрый, стал тыкать им в мою сторону. Теперь он кричал сквозь дождь: — Ну-ка убери язык! — Но язык не втягивался. Наоборот, он вывалился ещё дальше. Я и не подозревал даже, что у меня язычище такого размера. А сейчас я даже видел свой собственный язык, удивительное зрелище, без которого я легко мог бы обойтись. — Меня зовут Барнум, — сказал я настолько чётко, насколько позволял вывалившийся язык — Барнум! Ты что, забыл? — Пастор вцепился в перила, чтоб не упасть. — Не думай, что я тебя не узнал. Я помню и тебя, и твоего несчастного брата! — Я постарался сделать улыбку и подошёл на шаг поближе. — Чёрт бы тебя подрал, — сказал я и рванул во все лопатки в сторону Валькирией и только где-то у рынка Весткантторгет сумел-таки втянуть язык за зубы. Здесь мне пришлось сесть на скамейку, перевести дух. Я показал язык пастору! Не то что кончик, а вывалил весь до корня — прямо в морду настоятелю церкви на Майорстюен! Да ещё охаял его. Чёрт бы тебя подрал, пастор! Жалко, Фред не видел. Он бы не поверил своим глазам. А это правда, я не приврал ни слова. Ну я ему расскажу! Опаздывать в школу после такого — проступок слишком мелкий. Ещё немного, и я сделаюсь смутьяном самого крупного калибра. Даже Господь вынужден будет обратить на меня внимание. Поэтому я бегом побежал в школу и ворвался на линейку в ту секунду, когда прозвенел звонок и полыхнула молния, и тут же — я до четырёх досчитать не успел — на школьном дворе разорвался гром и ходуном заходили шпили на церквях. Я встревожился. Ну как я ненароком наступил Господу на любимую мозоль? Да если ещё он обидчив по натуре? Девчонки завизжали, парни загоготали, и вдруг у меня за спиной очутились мои мучители, с души воротит называть их имена, но те же личности, что и в прошлый раз, и одновременно со вторым раскатом до меня долетели слова: — Шутки в сторону, это становится опасно. Слушай, нам нужен громоотвод, — А один из подельников ответил словами, прозвучавшими как заученный текст, как будто они заранее расписали роли, на всякий случай, причём я знал, что сейчас последует, я мог бы сам произнести следующую реплику, но вместо этого я взялся считать в уме раскаты и едва досчитал до трёх, когда раздалось: — Барнум, пожалуй, сгодится? На громоотвод, я имею в виду. — Стоя спиной, я безошибочно ясно видел, как они переглядываются и кивают, в восторге от замечательной идеи, едва ли хуже их предыдущей выдумки, когда на горке Бундебаккен я послужил им снегокатом. Вдосталь накивавшись и наподмигивавшись — я мешать не стал, — они подняли меня вместе с ранцем и всеми причиндалами и под вспышки и раскаты понесли к входу «В». Господь осерчал, я наэлектризовался. Локоны торчали перпендикулярно голове, как застывшие штопоры, но тут прибежал Козёл и попробовал перекрыть Господний гнев своим свистком, а когда не вышло, повалил нашу пирамиду. Гром отдалился, между раскатами я досчитывал уже до девяти, волосы размагнитились и улеглись на голове как обычно, как то случается с шестимесячной завивкой, и мне вдруг захотелось что-нибудь брякнуть. На языке вертелось Парикмахер ваш Бог никудышный, но вслух я сказал другое. — Это моя идея, — сказал я. Козёл наклонился пониже, стараясь двумя руками удержать и Аслака, и Пребена, и Хомяка, брови сошлись на переносице в большой чёрный куст, а вокруг нас, учуяв, что запахло жареным, кольцом сгрудилась вся школа. — Что ты говоришь, Барнум? — Это я предложил им понести меня. — После непродолжительной, но самоотверженной умственной работы Козёл отпустил всю троицу, стряхнул дождь с бровей и наклонился ещё ближе. — С молнией шутки плохи, Барнум. Мы обязаны относиться к силам природы с уважением. Так, всё — быстро по классам! — Спасибо! — Я глубоко поклонился и побежал вверх по лестнице. Остаток дня я тихохонько просидел за своей партой, первой в среднем ряду, отлучившись лишь на урок физры, где мне дозволялось заниматься чем захочу, в этом отношении с Козлом было легко, он меня списал и даже не заставлял переодеваться, так что я весь урок кувыркался колесом, неспешно, чтобы не пришлось потом идти в душ, с душем я завязал раз и навсегда после того случая, когда мальчишки схватили меня за ноги, развели их в стороны, как цыплёнку, и принялись вытворять бог знает что с мылом. Хотя мучить меня почти никто больше не мучил. Ничего нового из меня было уже не вымучить. А побыть, если так сойдётся, громоотводом, которого в дождь таскают по двору на руках, я был не против. Нет, случалось, конечно, кто-то начинал вязаться, например, когда я пил из фонтана: чтобы дотянуться до струи, мне приходилось или вставать на цыпочки, или влезать на бортик, и неизменно находились умники похвалиться своей молодецкой удалью за мой счёт — мне лили воду за пояс, кунали меня мордой в сливную канаву, награждали свежезаученными титулами: штырь, заноза, макака. Пусть их. Меня это не волновало. Я чувствовал себя выше этого. Выше. А они пускай захлебнутся своим идиотским смехом, он будет душить их долго и мучительно, подохнут они в бездне слёз — с камнем на шее и бетонными кандалами на ногах. Дело оборачивалось кошмаром, только если кто-нибудь из девчонок начинал меня защищать и увещевать этих умников, что они могли бы вести себя по-взрослому, что за детство такое — дразнить Барнума из-за его роста, он же не виноват, что Господь так скупо отмерил ему сантиметров, да? После такого я исходил ненавистью неделями, даже месяцами, и ненависть гудела во мне, как мотор, как огромная динамо-машина, которая работает на палубе грёз и поддерживает внутри меня чёрный свет, эдакое солнце наизнанку, льющее вокруг черноту, и я представлял себе, что так же была устроена печаль Пра, так же крутилось колесо её тоскливого ожидания. Эта ненависть питала меня, я перерастал сам себя и становился почти в состоянии понять, что имел в виду Фред, говоря, что начало в нём — злое. Из фонтанов я, впрочем, с тех пор не пью. К полудню того дня, дня открытия школы танцев и моего превращения в поперечную душу, Господь сменил гнев на милость, гроза ушла в другие пределы, тучи рассеялись, и небо засияло во всей красе и голубизне. Но только миролюбия Господа хватило ненадолго. Божья тишь да благодать скоротечны. На последнем уроке у нас была физиология со Шкелетой, прозванной так за несколько поколений до нас по той причине, что она имела обыкновение приносить на урок показать ученикам настоящую берцовую кость, которую слухи приписывали её родному папаше, — якобы Шкелета сохранила её как последнюю память о родителе, причём вдобавок к этой сплетне, довольно гнусной самой по себе, некоторые утверждали, что, дабы завладеть этой самой берцовой костью, Шкелете пришлось папашу самолично отравить. Мало кому доставляло удовольствие находиться рядом со Шкелетой, от неё пахло лекарствами, она то и дело отсутствовала по болезни, наверно, рахит, следствие нехватки в детстве солнца и калорийной пищи, почему она и убила отца и покусилась на его берцовую кость. Если Шкелеты не было в школе более двух дней, нам присылали замену. Тот день был третьим без Шкелеты. Я заранее приготовился к худшему и впал в тоску. Подменщица влетела в класс на всех парах, сгорая от энтузиазма. Пыша отменным здоровьем, она села и, пока усаживались мы, растянула губы в широченную улыбку, чем напугала меня всерьёз: по опыту я знал, что такие улыбки редко приводят к добру. Про злых людей хотя бы всё понятно. А от добрячков можно ждать любого подвоха. Она представилась и написала своё имя на доске, но я давно забыл его, если вообще помнил. Давайте, что ли, назову её Пиявкой. Пиявка, заменяющая Шкелету. Так и устроен мир. Она ходила между рядов и распространялась о гигиене в прошлые века (как будто это нам зачем-то нужно) и о том, что черника улучшает зрение, а потом понесла про горячее и холодное питьё, корни зубов, школьные завтраки, мел, плоскостопие, горб и искривление позвоночника, я не отваживался повернуться, но видел краем глаза, что Мыша с Хансеном уже приготовили линейки и наслюнили пулек из бумаги и козьего сыра, но тут она вернулась за кафедру, открыла учебник, приставила ладонь козырьком ко лбу и оглядела класс. Затем Пиявка указала на Мышу: — Как тебя зовут? — Она оказалась из тех, кто сразу лезет с вопросом про имя, не дав человеку рта раскрыть. В животе возникла тяжесть, точно мне сунули туда мешок с мокрым песком. — Халвор, — ответил Мыша. — Халвор, скажи нам, пожалуйста, что такое селезёнка? — Мыша думал долго, потом ответил: — Американский конькобежец. — Пиявка изменилась в лице, засмеялась и ткнула в Хансена. Мне пришла в голову одна мысль. Если все ответят неверно, я могу дать правильный ответ. Я запомнил, что говорил Фред. — А тебя как зовут? — Ханс, но можете называть меня Хансен. — Отлично. Так скажи нам, что же это такое — селезёнка? — Казалось, Хансен задумался над ответом. На самом-то деле он закемарил: думать Хансен не думал никогда, но время умел тянуть, как никто (однажды он продержался целый урок), и вот уже Пиявка начала терять терпение, улыбка стала отклеиваться с её губ. — Что ты говоришь, Ханс? — Хансен очнулся, Пиявка подалась вперёд, точно предвкушая гениальный ответ. — Селезёнка, — начал Хансен медленно, — селезёнка — это мелодия, которую в радиопрограмме «По вашим заявкам» исполняет на барабане Финн Эриксен. — Пиявка, присланная к нам в класс на замену, натурально сползла под кафедру, и, естественно, взгляд её упёрся в меня, куда ж ещё? Я уже знал, что произойдёт. — А как же нас зовут? — Со мной она говорила совершенно другим голоском, сюсюкала, будто язык у неё во рту был криво подвешен. В классе сделалось тихо-тихо. Все млели в предвкушении удовольствия, сравнимого разве что со счастьем последнего урока перед летними каникулами. — Барнум, — ответил я. — Что ты сказал? — Барнум. — Лицо Пиявки на глазах наливалось кровью. — На те дни, что я заменяю фрекен Харалдсен, извольте пользоваться вашими настоящими именами. Пока я не рассердилась, немедленно скажи, как тебя зовут? — Барнум — моё настоящее имя, — ответил я. Пиявка дёрнула на себя ящик, вытащила журнал, шваркнула им о кафедру и уткнула нос в страницы. Неожиданно она размякла от лба до подошв, взглянула на меня со значением и засюсюкала пуще прежнего. Что я и говорил: души добрячков потёмки, но хватка у них мёртвая. — Барнум?! Что ж, Барнум, скажи-ка нам, Барнум, что в нашем организме называется селезёнкой? — Это был не абсолютный рекорд. В прошлом году у нас заменяли труд, так там человек умудрился втиснуть пять Барнумов в одно предложение, просто передавая мне рубанок. Я и бровью не повёл. — Селезёнка, — ответил я, — помогает очищать кровь. Кроме того, когда у нас колет в боку от бега, это тоже селезёнка. — Пиявка захлопала в ладоши. О чём её никто не просил. — Совершенно верно, Барнум. Подойди-ка сюда, Барнум. — Я остался на месте. — Зачем? — шепнул я. — Затем, что ты такой умница, Барнум. — Я не могу, — сказал я. — У меня в боку колет. — В ответ Пиявка захохотала и написала на доске большими буквами «селезёнка». — Барнум! Иди-иди сюда, Барнум. — Я сполз со скамейки и побрёл к кафедре. Я глядел на Пиявку и видел, как ей хочется потрепать мои кудри. Но она устояла. И взамен положила руку мне на спину. Я уже чувствовал, что дело кончится невесело. Мне бы сломать указку, раскрошить мел или опрокинуть чернильницу, как учил Фред. Но вместо того я стоял столбом. Весь класс лёг животами на парты и не сводил с нас глаз, некоторые и рты разинули, будто самое страшное уже произошло. Меня замутило. Господь сочинил шутку и поставил меня на одну из ролей. — Где находится селезёнка? — спросила Пиявка. — Слева, — прошелестел я. — Под диафрагмой. — Снова порхнула рука Пиявки, и на этот раз опустилась на мои волосы. Не устояла добрая душа перед искушением. Не совладала с собой. — Молодец, Барнум! Всё верно — селезёнка находится ниже диафрагмы. Покажи-ка нам, Барнум. — Я повесил голову. — Показать что? — Где находится селезёнка, Барнум. — Ниже диафрагмы, — повторил я. — Барнум, это мы слышали. А теперь покажи. — Я ткнул в левый бок. Но Пиявка не унималась. Она вцепилась в мой свитер и стала задирать его. — Барнум, ну давай, покажи, чтоб все запомнили. — Я сдался. Задрал свитер и рубашку. И тут же по классу пронёсся вздох, стон, и сама Пиявка пошатнулась и вцепилась в кафедру. Я посмотрел туда, где у меня селезёнка. Вот в чём дело — мамины трусы. Мамины тонкие розовые трусы. Они свисали на бёдра, и кружева лежали, как незастроченный ремень. Я дёрнул вниз рубашку и свитер. Но поздно. Все всё видели. Весь класс видел, что я ношу безразмерные мамины трусы, и вряд ли кто теперь забудет, где у нас селезёнка. Прозвенел звонок. Все кинулись вон из класса. Я медленно вернулся на своё место. Неспешно собрался. Если только заставить время идти медленно, всё пройдёт. Медленно, но верно всё пройдёт, уйдёт, забудется и исчезнет. Время — как гигантский ластик, подтирающий огрехи жизни. Такова была моя единственная надежда. Хрупкая, конечно. Из класса я вышел предпоследним. Пиявка всё тёрла доску. Сухой и жёсткой губкой. Она повернулась ко мне, печальная и оторопевшая, в свой черёд преобразившаяся донельзя. Буквы осыпались ей на пальцы белой мукой. Она ничего не сказала. Я попрощался.