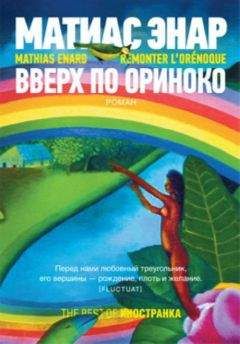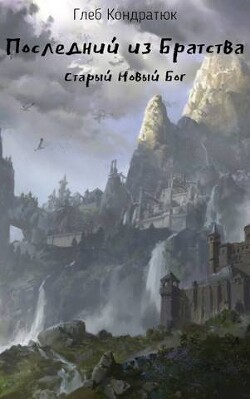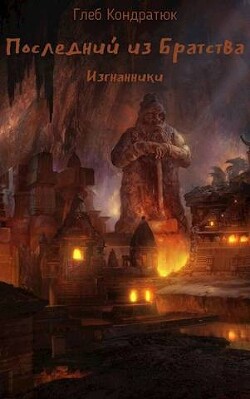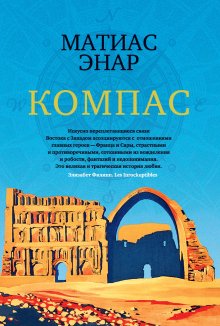Ежегодный пир Погребального братства - Энар Матиас
* * *
Когда отец Ларжо был под градусом, когда водка начинала забирать или бормотуха дарила ему — пусть не забвение, но хоть какое-то расслабление, — перемену в его мучениях, и тогда он переставал думать о Христе, сомневаться в вере, но мысленно ухватывал какой-нибудь повседневный предмет и концентрировался на нем, или неотступно смотрел на какое-нибудь растение, или следил за каким-то животным, хотя бы за одной из Матильдиных кошек, и наблюдал со своего стула, как маленькая хищница крадется в сад, лавирует, трется о ствол высокой катальпы, ловит муху или бабочку, катается по траве, и это наблюдение помогало Ларжо не думать ни о чем другом, сидеть у окна абсолютно неподвижно, упершись локтями в краснобелую клетчатую клеенку; он и не просил ничего, кроме этой передышки, паузы в мучительных размышлениях. После, когда вопросы снова кружились в голове, когда возвращались сомнения и прельстительные картины, он вскакивал, хватался за кепку, натягивал куртку и выходил. Он миновал деревню почти бегом, чтобы скорее добраться до края равнины; ему не верилось, что просторы эти внезапно остались без Бога, что дух не веет над полями, что река веры не орошает эти земли, — ходьба заменяла ему медитацию. Он шел сквозь поля на юго-восток; пересекал Севр в Сен-Максире, минуя красивую ферму Болье, направо боковая дорога спускалась к Мюрсе, но он шел прямо вперед, к каменной голгофе, стоящей у перекрестка шорейской дороги с дорогой на Эшире: Христос был единственным побегом, уцелевшим после того, как снесли все изгороди и запахали межи, на ободранных складках голой земли с длинными пустыми бороздами, с полосками белых камешков, поднятых лемехами трактора, — и что за смысл было стоять тут этому Богу нищих, распятому на забытом перекрестке, мешающему автомобилистам видеть подъезжающие сбоку машины? Ларжо пытался молиться, несколько сотен метров что-то бубнил про себя и сдавался. Лучше сосредоточиться на ходьбе, на дыхании, на окрестном пейзаже, — добравшись до плешки холма, он чуть не потерял кепку. Вдали можно было проследить взглядом долину Севра: в одну сторону до Сиека и Суримо, в другую — до Сен-Максира и Эшире; за Сен-Максиром виднелись лопасти ветряков, чья вереница отделяла его деревню и соседний поселок Сен-Реми, — Ларжо скорее угадывал, чем различал шпиль своей церкви. На следующий день ему надо было ехать на крестины в Фей-сюр-Арден, вон туда, за несколько километров, потом на венчание в Вилье-ан-Плен, а еще через два дня на похороны в Беселёфе; приходов у него было множество, чуть ли не каждый месяц добавляли новый участок — а вдруг действительно кроме него никого не осталось? Совсем скоро архиепископ Пуатье собирается слить воедино двадцать пять приходов к северу от Ниора и назвать все это в честь какого-нибудь местного святого; и никаких тебе больше церковных округов; будет один-единственный приход с сорокатысячной паствой на одного-двух священников, оставят еще нескольких диаконов плюс он сам, дай бог, еще много лет будет помогать, даже выйдя на пенсию, — духовная жизнь в этих местах угасала, становилась призрачной и туманной, витала в воздухе, готовая вот-вот растаять. Ларжо казалось, что последние сорок лет перевернули все; в свои шестьдесят пять с гаком он словно проснулся в совершенно незнакомом мире и теперь брел вслепую в сумерках времени, в черной ядовитой массе.
Он глубже натянул кепку и продолжил путь; он, конечно, знал, что до Суримо моста через Севр не будет, а шагать да самого Суримо, а затем в Сиек через Сент-Пезенн, чтобы вернуться в деревню, означало еще добрых два часа ходьбы, то бишь всего часа четыре или пять. Священник взглянул на облака: раннее весеннее солнце напоминало самого Ларжо, вроде бодрое, но в любой момент может подвести. Он вернулся в долину у Мурсэ и пошел вдоль реки мимо деревьев и пасущихся лошадей, — к счастью, почва была довольно сухая, ноги не слишком вязли. Воздух пах травой и гнилью; и лишь омела высоко на ветвях изредка оживляла голые ивы и тополя. Замок Мурсэ лежал печальной руиной — каменная ограда исчезла, вся крыша главного корпуса провалилась; башни зияли огромными провалами, былую славу одолевало забвение. Ежевика и плющ заполонили все своей зеленью, они лезли в окна, тянулись к бойницам, словно щупальца хищного зверя, который когда-нибудь поглотит, обрушит высокие резные колонны, крестовины оконных рам, ребристые своды и даже изящный балкон второго этажа, выходящий на реку, — и только три лебедя и две утки беззаботно кружили на воде среди обступающей разрухи.
Ларжо не молился уже много недель, а может, и месяцев — он только повторял слова, которые без сердца не имели ни смысла, ни силы. Он машинально читал мессу; ему казалось, что вместо него говорит и поет заезженная пластинка. Он все чаще замечал на свадьбах или похоронах, что никто не помнит церковных песнопений; никто не знает, что при чтении Евангелия надо вставать. Ларжо сердился лишь на себя самого; к вечеру ему становилось совсем тоскливо и тревожно, и он знал, что вернется домой, снимет грязные башмаки, наденет войлочные тапки, отстегнет колоратку, сменит свитер на домашний халат и обязательно примет несколько стаканчиков белого, а потом столько же стаканчиков красного и шкаликов водки, чтобы вернуться к привычной апатии, приглушить страх и начать ждать — а вдруг, как это часто бывает, придет Матильда. Ее прихода он и ждал, и боялся, ибо похоть при этом разгоралась с такой силой, словно сам лукавый дул на угли его сердца. Ларжо сознавал, что его желание — лишь симптом, знак одиночества и капитуляции; дух оставлял его, и тем сильнее становилось тело, демон одолевал его; и плоть, столько лет сдерживаемая в узде, восставала — теперь, когда он склонялся к старости, он ощущал такую беспомощность и одиночество, что только и мог, что глубже уходить в ту леность души, которую монахи называют унынием.
* * *
Гари, возвращаясь в то утро домой после встречи с кабаном, скакавшим по снегу под нараставший гул метели, и не подозревал, что в ходе предыдущих воплощений он был женщиной с крутым нравом, державшей питейное заведение в коммуне Лезе; работницей на кожевенной фабрике Ниора, умершей при родах; капралом артиллерийской бригады из Ла-Шапель-Батон, умершим в 1918 году от испанки в Реймсском военном госпитале; одноглазым колодезником из Рувра, умершим в 1896 году в возрасте ста лет, и волчицей, серой волчицей из эрми-тенского леса, что лежит между Эгонне и Ла-Мот-Сент-Эре — зимой волчий вой слышен с наступлением ночи, когда стаи приближаются к каменным стенам деревенских домов, стоящих на краю каштановых рощ или на опушках дубрав; их видят и весной, когда волки в лунном свете идут на водопой к ручью возле Чертова камня — на них охотятся ради острых ощущений и награды, ставя ловушки с мощными металлическими челюстями, способными надвое разрубить кошку и отсечь лапу лисице, иногда попадается и волк, и тогда ему отрезают уши и хвост, чтобы получить деньги в мэрии, которая отправляет счета в Ниорскую префектуру. Известно, что волк нападает на человека, только если заболеет бешенством, и тогда он смертельно опасен, может и заразить, и загрызть. В 1894 году департамент выплатил награду за отстрел тринадцати волков, в 1895 году — семи, в 1896 году — шести, в 1898-м только четырех, а в 1901-м — одного; потом с волками будет покончено, и эти крупные представители семейства псовых, уносившие овец и маленьких деток в народных сказках, переведутся совсем.
Двадцать третьего фримера V года Революции, накануне рождения колодезника в деревне Ла-Куард только что образованного департамента Дё-Севр, от которого потихоньку удаляется пламя войны, оставляя безлюдные села, заброшенные поля, поредевшие стада, то есть 13 декабря 1796 г., агент жандармерии Пруст пишет за вдову Мари-Жанну Буше, в девичестве Ландрон, безграмотную, «ходатайство к членам муниципального управления, дабы граждане распорядители испросили у департаментских властей и выплатили ей денежное вознаграждение за благородный поступок мужа ее Жан-Пьера Буше: затворяя ограду выпаса, Буше был атакован бешеным волком, который кусил его за руку и разорвал бедро. Увидев кровь, Пьер Буше бросился на свирепого зверя с криком: „Пусть я погибну, но избавлю родину от урона, который может учинить этот бешеный волк. Ценою собственной жизни я спасу жизнь соседей“. И тогда между ним и зверем завязался небывалый поединок: истекая кровью, крестьянин сумел из последних сил отрубить волку голову топором, единственным своим оружием обороны. Жан-Пьер Буше скончался от полученных ран и оставил вдову с многочисленной семьей, черпавшей средства к существованию исключительно в результатах ежедневного труда покойного мужа».