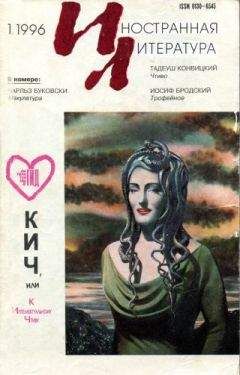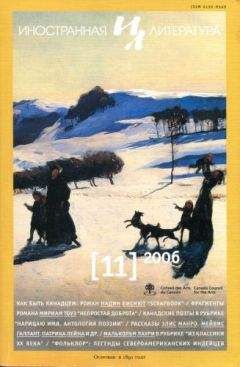Дороже самой жизни (сборник) - Манро Элис
— Вон Грег, — сказала она, обращаясь к Кейти. — Видишь, вон там, внизу. Он нам машет. Помаши ему тоже.
Но Кейти не смогла найти Грега взглядом. А может, и пробовать не стала. Она отвернулась с чопорным и слегка оскорбленным видом, и Грег, последний раз фигурно взмахнув рукой, тоже отвернулся. Уж не наказывает ли Кейти его за то, что он ее бросил, подумала Грета. Она явно отказывается по нему скучать или даже признавать, что он существует на свете.
Ну и ладно — раз так, то пусть будет так, и дело с концом.
— Грег тебе помахал, — сказала Грета, когда поезд отходил от перрона.
— Я знаю.
Ночью, пока Кейти спала на койке, Грета сидела рядом и писала письмо Питеру. Длинное письмо — она описывала разные типы пассажиров, стараясь, чтобы выходило смешно. Она писала о том, как многие из них предпочитают смотреть на жизнь через видоискатель фотоаппарата, а не напрямую. О том, что Кейти ведет себя хорошо. Конечно, ни слова о потере и страхе. Она отправила письмо, когда прерии давно остались позади, мимо пошли бесконечные леса черных елей и поезд по неизвестной причине остановился в маленьком затерянном городке под названием Хорнпейн.
На протяжении всех этих сотен миль все ее часы бодрствования были посвящены Кейти. Грета знала, что никогда раньше не была так предана ребенку. Да, она заботилась о дочери, одевала ее, кормила, разговаривала с ней все время, пока они были вдвоем, а Питер — на работе. Но у Греты были еще и дела по дому, и она уделяла дочери внимание лишь отрывочно, а ее нежность была хорошо рассчитанной.
Причем дело было не только в работе по хозяйству. Другие мысли заслоняли ребенка в голове у Греты. Даже до того, как ею овладела бессмысленная, изнурительная, идиотская одержимость человеком из Торонто, у нее была еще и другая работа — работа поэта, которую она творила внутри себя едва ли не с рождения. Ее осенила внезапная мысль, что это — тоже предательство: по отношению к Кейти, к Питеру, к жизни. А теперь из-за этой картины у нее в голове — Кейти, сидящая в металлическом лязге между вагонами, — она, мать Кейти, была обязана принести еще одну жертву.
Грех. Она устремила свое внимание на что-то другое. Целенаправленное, жадно ищущее внимание — на что-то иное, нежели ее ребенок. Грех.
Они прибыли в Торонто незадолго до полудня. Небо было черное. Летняя гроза с молнией. Кейти, живя на западном побережье, никогда не видела такого, но Грета объяснила, что бояться тут нечего, и Кейти, кажется, не боялась. Она не испугалась и еще более непроглядной черноты, озаренной электрическими лампочками, в туннеле, где остановился поезд.
— Ночь, — сказала она.
— Нет-нет. — Грета объяснила, что надо выйти из поезда и пройти пешком до конца туннеля. Потом они поднимутся по ступенькам или поедут наверх на эскалаторе и окажутся в большом здании, а оттуда выйдут на улицу и возьмут такси. Такси — это просто машина, и на этой машине они поедут в свой дом. В новый дом, где они немножко поживут. Они там немножко поживут, а потом поедут обратно к папе.
Они поднялись вверх по пандусу, и там оказался эскалатор. Кейти притормозила, так что Грета тоже притормозила, но тут их начали обгонять другие люди. Так что Грета взяла Кейти на руки, пристроила ее у себя на бедре, наклонилась, ухитрилась подхватить другой рукой чемодан и грохнула его на движущиеся ступени. Наверху она спустила дочь на пол, и они смогли взяться за руки под ярко освещенными высокими сводами центрального вокзала.
Прибывшие пассажиры, идущие перед ними, отделялись от потока по одному — их разбирали встречающие, окликая по имени или просто подходя и подхватывая чемоданы.
Их чемодан тоже кто-то подхватил. Схватил его, схватил Грету и поцеловал ее впервые — решительно и торжественно.
Гаррис.
Грету сначала что-то ударило, а потом у нее внутри все перевернулось и с грохотом расставилось по местам.
Она пыталась цепляться за Кейти, но девочка именно в этот момент отстранилась и вырвала руку.
Она не делала попыток убежать. Просто стояла и ждала, что будет дальше.
Амундсен
На скамейке у станции сидела я и ждала. Когда поезд пришел, станцию открыли, но потом снова заперли. На другом конце скамьи сидела женщина, держа меж коленей авоську со свертками в промасленной бумаге. Мясо, сырое мясо. Чувствовалось по запаху.
Через несколько путей от нас, ожидая неизвестно чего, стояла электричка. Пустая.
Больше пассажиров не было, и через некоторое время начальник станции высунул голову и закричал: «Сан!» Сначала я решила, что он зовет кого-то по имени, «Сам». И действительно, из-за угла здания появился мужчина в форменной одежде. Он перешел через пути и залез в трансформаторный вагон. Женщина с авоськой встала и пошла за ним, так что я последовала ее примеру. С другой стороны улицы послышались крики; двери дома с плоской крышей, крытой темной черепицей, отворились, и оттуда выбежало несколько человек — они на ходу натягивали кепки, молотя себя «тормозками» по ногам. Они устроили ужасный тарарам — можно было подумать, что поезд вот-вот покажет им хвост. Но когда они поднялись в вагон и расселись по местам, ничего не случилось. Поезд не трогался. Они пересчитали друг друга по головам, назвали имя отсутствующего и велели машинисту пока не ехать. Тут кто-то из них вспомнил, что у отсутствующего сегодня выходной. Поезд тронулся, хотя я не могла бы сказать, прислушивался ли машинист к происходящему в вагоне и не было ли ему все равно.
Все мужчины слезли у лесопилки, расположенной среди кустарника на плоской равнине — пешком от вокзала они дошли бы сюда минут за десять, — и вскоре после этого в окнах вагона показалось озеро, покрытое снегом. Перед ним стояло длинное белое деревянное здание. Женщина поправила свои свертки и встала, я тоже. Машинист снова закричал: «Сан!» — и открыл двери вагона. На платформе стояли две женщины — они приветствовали женщину с авоськой, а она в ответ заметила, что сегодня ветрено.
Все они избегали смотреть на меня, пока я спускалась по ступенькам вслед за женщиной с мясом.
На этом конце поезду, видно, ждать было некого. Двери с лязгом захлопнулись, и он двинулся в обратный путь.
Воцарилась тишина, воздух был как лед. Хрупкие с виду березы с черными отметинами на белых стволах и какие-то растрепанные вечнозеленые кустики, сбившиеся в кучу, как сонные медведи в берлоге. Замерзшее озеро было не ровным, а бугрилось у берега, словно волны превратились в лед прямо на бегу. За нами стояло здание с решительными рядами окон и застекленными верандами по обоим концам. Все было сурово и северно, черно-бело под высоким куполом облаков.
Но березовая кора совсем не белая, если подойти поближе. Серовато-желтая, серовато-голубая, серая.
Все так неподвижно, так завораживает.
— Вы куда? — спросила меня женщина с мясом. — Посетителей не пускают после трех.
— Я не посетитель, — ответила я. — Я учительница.
— Ну так вас все равно не пустят через парадную дверь, — с некоторым удовлетворением сказала женщина. — Идите-ка лучше со мной. А что, у вас багажа нет никакого?
— Начальник станции обещал его привезти.
— Вы так тут стояли, как будто заблудились.
Я объяснила, что остановилась из-за красоты пейзажа.
— Ну да, некоторым тут нравится. Только если они не слишком больные и у них есть время прохлаждаться.
После этого мы молчали, пока не дошли до кухни, расположенной в торце здания. Мне не терпелось согреться. Я не успела осмотреться вокруг, потому что женщина обратила внимание на мои ноги.
— Ну-ка, разуйтесь, а то весь пол затопчете.
Я неловко стащила сапоги — сесть было некуда — и поставила их на коврик рядом с сапогами женщины.
— Возьмите их с собой. Я не знаю, куда вас определят. И пальто не снимайте, в гардеробе не топят.
Ни отопления, ни света — кроме того, что просачивался в крохотное окошечко где-то высоко над головой. Словно я опять школьница и меня наказали. Отправили на отсидку в гардероб. Да. Тот же запах — никогда до конца не просыхающей зимней одежды, сапог, промокших насквозь до грязных носков, немытых ног.