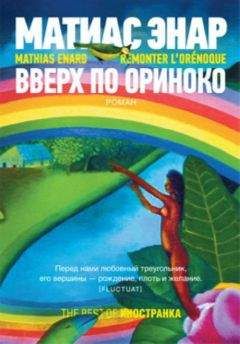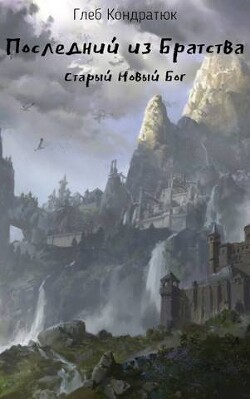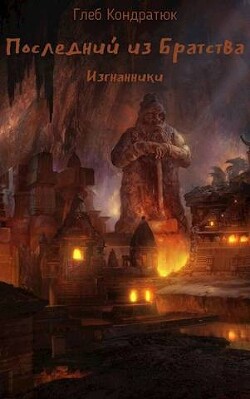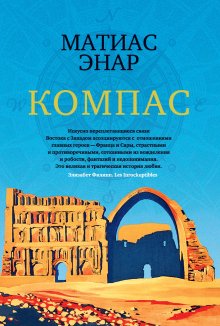Ежегодный пир Погребального братства - Энар Матиас
Первую профитроль бросил сам Куйлеруа. Маленькую, почти профитролечку; заряженная ванильным кремом, она расплющилась о правый висок Пуародо, обметав лицо гробовщика и плечо его соседа ошую, — Пуародо улыбнулся, жадно сглотнул остатки теста и сладкой начинки и воспользовался заминкой, чтобы коварно макнуть голову соседа справа в огромный шу с кремом шан-тийи, который тот опрометчиво пытался съесть внаклонку: разогнулся он седой, как Дед Мороз, со взбитыми сливками в бороде, глазах и ноздрях; Су-хопень радостно раздавил шу прямо посередке черепа Громоллара, тот не сумел увернуться и не знал, смеяться или плакать от такого ритуального афронта; Марсьяль Пувро, распорядитель банкета, подвергся множественному обстрелу шу и шукетками, и поскольку был не в состоянии увернуться, то на его багровом шнобеле расплющилась даже гигантская шоколадная «монашка», черными метеоритными частицами забросав окружающие физиономии. Все находили время, чтобы облизать друг друга, облизнуться самим и потом утереться, и ели, ели эти божественные десерты, как будто они были последними, — но ведь и пир подходил к концу.
Официант, несший пирамиду пирожных, поскользнулся на эклере (а может, на чьей-то подножке) и невольно метнул кучу шариков из теста и крема в воздух, назад, прежде чем растянуться самому, — бедняга, несмотря на правило не добивать лежачего, был просто утоплен в целой оргии крема и теста, пока не запросил пощады; и все смеялись, чавкали, подскальзывались и шлепались, и снова смеялись, заляпанные растопленным шоколадом, взбитыми сливками, ванилью, — близорукие уже ничего не видели и вслепую стреляли сластями, как из пулемета, сами прячась за тарелки; коты мяукали и терли усы, как только в них попадал снаряд; собаки перестали что-либо понимать и отчаянно лаяли, периодически сглатывая залетевшее в открытую глотку шу; окосевшие вертельщики, прикорнувшие у камина, были разбужены тычками крема и возвращались в разум, — кто не встал, чтобы метать снаряды, затаился в укрытии, и сладкий бой шел до истощения боеприпасов и спазмов мышц брюшины и челюстно-лицевых, и что за гомерический стоял хохот, господи! Однако же мало-помалу все приходили в себя: протирали очки, готовили ритуальные рюмки; наводили красоту, задирали ноги вверх, когда половые лили на пол ведра горячей воды, тесня месиво грязи; кто-то помог Сухопеню очистить его магистерскую мантию, Биттезееру Ниорскому — церемонийместерский мундир, Гро-моллару — костюм казначея. Рассвет за собором уже позволял различить белое и черное, и похоронщики знали, что, даже если некоторые из них для потехи будут пировать весь следующий день — как говорится, остатки сладки, — сам пир, по сути, заканчивался с Ритуалом, несмотря на то что по его окончании, дабы привести могильщиков в чувство и отполировать им кишки, подавался луковый суп под коркой запеченного сыра — непревзойденное блюдо зари и любви, за которым следовала дюжина крупненьких, плотненьких, только что открытых маренских устриц, призванных прогнать похмелье; но, несмотря на этот завтрак, который, можно сказать, был продолжением пира, сам он заканчивался с Ритуалом, к проведению которого сейчас готовился магистр Сухопень, невольно актуализируя в уме список того, что удалось до этой минуты заглотить: «Так-так-так, значит, съел я крошечный кусочек рийета с вувре, едва могу вспомнить, как и жалкий ломтик утиного паштета, да несколько соленых огурчиков, протолкнуть предыдущее; яйцо „мимоза“, всего-то две половинки, ибо петрушка способствует пищеварению, затем две сырные гужеры, — так, один воздух, несколько лягушачьих лапок, — известное дело, мелочь; улитки — туда им и дорога; буше по-королевски с телячьим зобом — есть ли во всем мире закуска тоньше и деликатней; чашка говяжьего бульона, в которой плавали толстые крепкие крутоны, увенчанные завитушкой фуа-гра; яйцо пашот с розовым луком в шинонском вине, только ради удовольствия окунуть палочку со свежим тмином в желток, едва схваченный идеальной варкой; волован, где раки плавали в удовольствии и сметане, с подливкой из речной рыбы под белым вином; шесть горячих устриц по рецепту Александра Дюма, как завещал их готовить великий писатель: вынуть из раковин, засыпать пармезаном, петрушкой, щедро полить шампанским и обжарить на гриле; девять лангустинов из питомника Круа-де-Ви, попросту сваренных в морской воде, в сопровождении элементарного майонеза, да несколько капель лимона и на палец оливкового масла без сильной горчинки; клешни крабов в панировке, выловленных и обжаренных в тот же миг, обмакнутых в тот же майонез, в который добавили несколько веточек эстрагона, кервеля и лучка; четыре кружочка угря, фаршированных остатками крабового мяса в простом голландском соусе, чуть розоватом от томатной пасты без всякой особой причины, ради цвета; да два обрубка миноги по-нантски, по-ларошельски или борделезски, ужасающая рыба, тушенная в густом красном вине с беконом и собственной кровью; половинка филе заливного карпа по-жидовски, с морковью и мелкими овощами, в тщетной попытке отбить у карпа тинный привкус; да рюмка пятидесятипятиградусной сливовицы в качестве Дыры; затем стаканчик ракушек, запеченных с сыром кон-те и трюфелем, чтобы закидать Дыру; рюмочка пятидесятипятиградусной дягилевки, чтобы снова открыть Дыру; а затем большая ложка макаронных рожков, чтобы перебить жуткий лекарственный вкус дягилевки и окончательно закупорить Дыру; ломоть молочного поросенка, неспешно зажаренного в камине, сладостный и маслянистый, как и сопровождающий его шоколадный соус; лоханоч-ка тыквенной запеканки с сыром том-де-майлезе — наслажденье; потом заячья ножка, душистая, ароматная, приготовленная исключительно на углях виноградной лозы, с соусом из щавеля, чеснока и весенних грибов, с малой кислинкой; да тонкий срез баранины и с ним несколько белых фасолин — наших, болотных, тушенных под приоткрытой крышкой с жирком от ветчины; крошечный кусочек телячьего филе в соляной корочке, брошенного в огонь камина, за который немало людей продали бы душу дьяволу; несколько ломтей жареного телячьего бедра с вынутой костью, пропитанного специями, сшитого заново и потом нарезанного ветчинным ножом; зеленая спаржа, молодой горошек, молодая морковочка, лук нового урожая, зеленый чеснок, все в сопровождении горячего травяного майонеза беарнез без уксуса; треть головки шаурского сыра, долька летнего бофора, редчайшего домашнего бофора из молока высокогорных коров; капелюшечка монбризонского фурма, съеденного за его неповторимую сладость, немного сыра тет-де-муан под белое мерсо, — я же, в конце концов, великий магистр; и еще глоточек лионского душистого, пусть порадуется Громоллар; и еще надо попробовать беленького сен-жозефа, просто неприлично, как хорош, да кусок шабишу из Пуату, зрелого в самую меру, совсем не крошится, — а то как допить этот божественный сансер без всякой закуски? — и ломоть хлеба, лучше хлеба и не бывает — старинный каравай на домашней закваске из роскошной муки без всяких добавок, смолотой каменным жерновом, который вращает река, да вымешанный на родниковой воде и выпеченный в дровяной печи, на одних ясеневых дровах с болота, ну и стакан шинона, чтобы легче глоталось. Кстати, вспомнил! Во время трапезы я еще выпил изрядно шенена, анжуйского и туренского гамая, несколько стаканов марейля, — это когда у меня в горле пересохло, а потом принесли десерты, одно шу со взбитым кремом успел съесть, а другое растер по лысине Громоллара, затем маленькую «монашку», затем несколько профитролей, они прямо в рожу мне угодили, пальчики оближешь, да еще один или два кофейных эклера, и вуаля! — и теперь все это вот-вот закончится, добавим только немного водки для Ритуала, немного спиртного, а потом уж только луковый суп с запеченной коркой из сыра конте с добрыми горбушечками хлеба да дюжина мареннских устриц, отборных, мясистых, по размеру — номер два, с крепким мюскаде на винном осадке, и надо бы немного поспать перед возвращением в Лотарингию — давно пора, и так задержался. Тоскливо мне здесь, в Пуату — без родимых гор и копченой свиной голяшки.