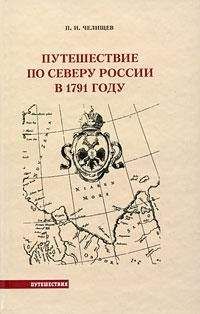Полная иллюминация - Фоер Джонатан Сафран
«Где это снято?», — спросил я. (Должно же быть какое-то объяснение.)
«В Колках».
«Ты оттуда родом?» (Ты всегда говорил Одесса… Влюбиться…)
«Да. До войны». (Вот как все обстоит. Вот как, если по правде.)
«Бабушка Джонатана?»
«Я не знаю ее имени и не хочу его знать».
(Должен проинформировать тебя, Джонатан, что я очень печальный человек. Я думаю, я всегда печальный. Возможно, это знаменует, что я никогда не печалюсь, потому что печаль — это то, что ниже твоего обычного расположения, а я всегда одно и то же. Тогда возможно, что я единственный человек в мире, который никогда не печалится. Возможно, что я счастливчик.)
«Я не плохой человек, — сказал он. — Я хороший человек, которому выпало жить в плохое время».
«Я это знаю», — сказал я. (Даже если бы ты был плохим человеком, я бы все равно знал, что ты хороший.)
«Ты должен проинформировать его обо всем, о чем я тебя сейчас проинформирую», — сказал он, и это меня очень удивило, но я не спросил, почему, и вообще ничего не спросил. Я сделал так, как он распорядился. Джонатан открыл дневник и начал писать. Он записал каждое слово, которое было произнесено. Вот что он записал:
«Все, что я сделал, я сделал потому, что считал, что так правильно».
«Все, что он сделал, он сделал потому, что считал, что так правильно», — перевел я.
«Я не герой, это правда».
«Он не герой».
«Но я и не плохой человек».
«Но он не плохой человек».
«Женщина на фотографии — это твоя бабушка. Она держит на руках твоего отца. Человек, стоящий рядом со мной, — это был наш лучший друг, Гершель».
«Женщина на фотографии — это моя бабушка. Она держит на руках моего отца. Человек, стоящий рядом с Дедушкой, — это был его лучший друг, Гершель».
«Гершель на фотографии в ермолке, потому что он был еврей».
«Гершель был еврей».
«И он был моим лучшим другом».
«Он был его лучшим другом».
«И я убил его».
Впадая в любовь, 1934—1941
В ДЕНЬ ИХ ПОСЛЕДНЕГО соития — за семь месяцев до того, как она наложила на себя руки, а он сочетался браком с другой — Цыганочка спросила у дедушки, как он расставляет книги.
Только к ней он всегда возвращался сам, не дожидаясь, пока его об этом попросят. Они встречались на ярмарке (он наблюдал, дрожа от предвкушения и гордости, как она завораживает змей в плетеной корзине подвыпившими звуками своей флейты). Они встречались в театре или у входа в ее крытую соломой лачугу в цыганском таборе на другом берегу Брод. (Ей, конечно, нельзя было показываться возле его дома.) Они встречались на деревянном мосту, или под деревянным мостом, или неподалеку от каскада небольших водопадов. Но все чаще — в окаменевшей чаще Радзивельского леса, обмениваясь новостями и шутками, веселясь с полудня и до заката, предаваясь любви (которая, возможно, и не была любовью) под балдахином из гранита.
Правда, я замечательная? — спросила она однажды, привалившись к стволу окаменевшего клена.
Нет, — сказал он.
Почему?
Потому что замечательных много. Можно не сомневаться, что сегодня сотни мужчин назвали своих возлюбленных замечательными, а ведь еще только полдень. Ты не как все.
Ты хочешь сказать, что я незамечательная?
Да.
Она дотронулась пальцами до его мертвой руки. Ты считаешь, что я некрасивая?
Ты неслыханно некрасивая. Тебе до красивых, как до луны.
Она расстегнула его рубашку. Я сообразительная?
Нет. Уж точно, нет. Никогда бы этого не сказал.
Она опустилась на колени, чтобы расстегнуть его брюки.
Я сексуальная?
Нет.
Смешная?
Ты не смешная.
Хорошо так?
Нет.
Нравится?
Нет.
Она расстегнула свою кофточку. Она прижалась к нему.
Мне продолжать?
Оказалось, что она бывала в Киеве, Одессе и даже Варшаве. Когда ее мать слегла от смертельной болезни, она целый год прожила среди Дымков Ардишта. Она рассказала ему, как плавала на корабле по местам, о которых ему раньше не доводилось слышать, и хоть он и понимал, что все это выдумки, шитые белыми нитками неистины, все равно кивал, стараясь убедить себя в их убедительности, стараясь верить каждому ее слову, понимая, что в основе любого рассказа — разлука, а ему хотелось, чтобы она всегда была рядом.
В Сибири, — говорила она, — есть люди, которые занимаются любовью за сотни миль друг от друга, а в Австрии есть принцесса, которая вытатуировала у себя на теле портрет возлюбленного, чтобы, подходя к зеркалу, на него любоваться, а по другую сторону Черного моря есть каменная женщина — сама я не видела, но видела моя тетя, — так вот, она ожила, потому что ее полюбил скульптор.
Сафран приносил Цыганочке цветы и шоколад (дары его вдов) и посвящал ей стихи, над которыми она всегда смеялась.
Надо же быть таким дураком! — говорила она.
Почему дураком?
Потому что то, что тебе ничего бы не стоило подарить, ты даришь так редко. Цветы, стихи и шоколад ничего для меня не значат.
Они тебе не нравятся?
Когда от тебя — нет.
А что бы тебе хотелось от меня?
Она пожала плечами, но не от растерянности, а от смущения. (Он был единственный человек на свете, способный ее смутить.)
Где ты книги хранишь? — спросила она.
У себя в комнате.
Где в комнате?
На полках.
В каком порядке они расставлены?
Какое тебе дело?
Мне важно знать.
Она была цыганкой. Он евреем. Когда она брала его за руку на людях (он знал, что она знает, что он этого не выносит), он немедленно находил руке занятие — пригладить волосы, указать на то место, где его пра-пра-пра-прадедушка высыпал на берег монеты из мешка, точно золотую блевотину, — а затем убирал руку в карман, избегая неловкости.
Знаешь, что мне сейчас просто необходимо, — сказала она, беря его мертвую руку в свою во время прогулки по воскресной ярмарке.
Скажи — и оно твое. Все, что пожелаешь.
Поцелуй меня.
Сколько угодно и куда угодно.
Сюда, — сказала она, кладя указательный палец себе на губы. — Сейчас.
Он кивнул в сторону ближайшей аллеи.
Нет, — сказала она. Поцелуй меня сюда, — кладя палец себе на губы. — Здесь.
Он засмеялся. Сюда? Он приложил палец к своим губам. Здесь?
Сюда, — сказала она, кладя палец себе на губы. — Здесь.
Они засмеялись вместе. Нервный смех. Сначала короткие смешки. Хи плюс ха. Смех погромче. Умножение. Еще громче. Возведение в квадрат. Захлебывающийся смех. Неуправляемый смех. Яростный. Бесконечный.
Я не могу.
Я знаю.
На протяжении семи лет Дедушка и Цыганочка занимались любовью, как минимум, два раза в неделю. Они исповедались во всех своих тайнах; как смогли, объяснили друг другу устройство своих тел; бывали волевыми и безвольными, жадными и щедрыми, говорунами и молчунами.
В каком порядке ты расставляешь книги? — спросила она, когда они лежали нагишом на ложе из гальки и затвердевшей земли.
Я же тебе сказал: они стоят у меня в спальне, на полках.
Интересно, а ты можешь представить свою жизнь без меня?
Запросто. Только не хочу.
Неприятно, да?
Зачем ты?
Просто мне интересно.
Никто из его друзей (если допустить, что, кроме нее, у него были друзья) не знал о существовании Цыганочки, и никто из его бесчисленных пассий не знал о существовании Цыганочки, и родители его, конечно, не знали о существовании Цыганочки. Дедушка держал ее в такой глубокой тайне, что порой ему казалось, будто он и сам в нее не посвящен. Она знала, что он старается спрятать ее от всех, держать под замком в изолированной комнате с потайной дверью, замуровать в стену. Она знала, что даже если ему и кажется, будто он ее любит, он ее не любил.
Как ты думаешь, где ты будешь через десять лет? — спросила она, отрываясь от его груди, чтобы заглянуть в глаза.
Не знаю.
А я где буду? Их пот смешался и высох, превратившись в липкую пленку, склеивавшую их.
Через десять лет?
Да.
Не знаю, — сказал он, поигрывая ее волосами. — Где, ты думаешь, ты будешь?