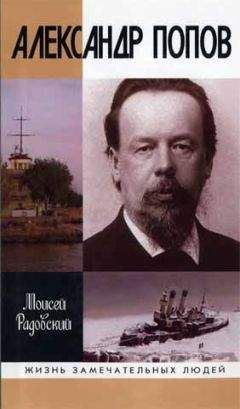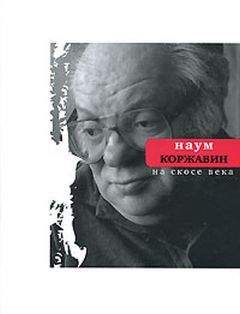День независимости - Форд Ричард
Важная истина относительно моей повседневной жизни такова: я сохраняю изрядную маневренность, и потому мое личное время и местонахождение существенного значения не имеют. Когда бедная милая Клэр Дивэйн пришла в «Фазаний луг» на трехчасовую встречу со своей судьбой и попала под циркулярную пилу неудачи, мгновенно сработала целая сеть тревожных сигналов и страдальческих вскриков, свидетельств любви, привязанности, чести, – от севера до юга, от побережья до побережья. Самый жиг ее расставания с человеческой сущностью был сейсмически зарегистрирован всеми, с кем она соприкасалась. Если же в один прекрасный день я возьму да произведу в моих обычных обязанностях и делах полный поворот кругом – поеду в Трентон и ограблю там круглосуточный магазинчик или совершу заказное убийство, а затем улечу в Карибу, провинция Альберта, и там утоплюсь голышом в болоте, – никто и не заметит, что моя жизнь изменилась из ряда вон выходящим образом, и даже отсутствия моего не обнаружит. Пройдет несколько дней, возможно, недель, прежде чем кто-нибудь взволнуется на мой счет. (Это не означает в точности, что я не существую, – всего лишь что не существую в достаточной мере) И потому, если бы я не приехал завтра на встречу с сыном или появился бы с Салли, как последним провокационным добавлением к нашей команде, – да даже если бы появился в компании толстомясой циркачки или с коробкой плюющихся кобр под мышкой – все заинтересованные лица сделали бы из этого выводы самые минимальные, отчасти стремясь максимально сохранить личную свободу и маневренность, отчасти потому, что никто так уж пристально приглядываться ко мне per se [49] не стал бы. (Но это, разумеется, отвечает моим желаниям – неспешному характеру моей одинокой жизни в тисках Периода Бытования, – хотя может также означать, что laissez-faire не равнозначно независимости.)
Однако, что касается Салли, ответственность за события нынешнего вечера я беру на себя. Поскольку, несмотря на все мои прочие успешные трансформации, я все еще должен научиться хотеть по-настоящему. Ибо стоит мне провести с ней больше одного дня – переваливая Зеленые горы, или уютно устроившись на большом супружеском ложе в «Колониальной таверне», что стоит на поле сражения под Геттисбергом, или просто спокойно любуясь, как сегодня, огнями буровых вышек и траулеров Атлантики, – я всегда думаю одно и то же: почему я тебя не люблю? – что мгновенно заставляет меня пожалеть ее, а затем и себя, а это ведет к горечи и сарказму или просто к вечерам вроде нынешнего, когда оскорбленные чувства прикрываются внешними ухищрениями (далеко не достигающими, впрочем, чувств глубоких).
А досаждает мне в Салли то – в отличие от Энн, которая все еще начальственно надзирает за всем, до меня относящимся, просто потому, что она жива и остается частью нашей неотменимой истории, – что Салли вообще ни за чем не надзирает, ничего не предполагает и, по существу, не обещает сделать хоть что-нибудь отдаленно на это похожее (признаваясь, впрочем, что я ей нравлюсь). А если принять во внимание неотделимость супружества от зубодробительного, холодного, но также и уютного страха, твердящего, что спустя недолгое время от меня ничего не останется – лишь я, химически соединенный с другим человеком, – мои отношения с Салли основаны на предположении, что я остаюсь только самим собой. Навсегда. Один только я и в дальнейшем буду отвечать за все, в чем принял участие; и никакой тебе приятственной «химии» или синхронистичности, на которые я могу опереться, никакого «другого человека», только я и мои поступки, она и ее поступки, каким-то образом соединившиеся, – а это, разумеется, еще и страшнее.
Тут и кроется источник чувства, которое мы испытывали, сидя на темной веранде: мы оба не ждем ни каких-либо событий, ни перемен. И то, что могло показаться поверхностными, ритуальными действиями и обменом ритуальными чувствами, на деле не было ни поверхностным, ни ритуальным, а было реальными действиями и честными чувствами – не пустотой, ни-ни. Это и есть то, что мы действительно ощущали нынче вечером: простое присутствие именно в этом времени, поодиночке и вдвоем. И ничего тут дурного нет. Если угодно, можете назвать наши «отношения» Периодом Бытования совместного пользования.
А что мне следует предпринять, вполне очевидно. Просто «достучаться» до Салли, сделать понятным и ясным, что мне нравится в ней (дьявольски многое), уступить тому, чего стоит хотеть, принять предлагаемое, заменить не имеющий ответа вопрос «Почему я тебя не люблю?» на лучший, позволяющий дать ответ: «Как могу я любить тебя?» Хотя, если я преуспею, это будет, наверное, означать возобновление жизни с той, плюс-минус, точки, к которой меня привел бы сейчас счастливый брак, – если бы я был способен продержаться в нем достаточно долгое время.
Миновав съезд 16В и оставив за спиной стадион «Гигантов», я пересекаю реку Хакенсак и сворачиваю на стоянку «Винс Ломбарди» [50], чтобы заправиться, отлить, прояснить с помощью кофе голову и прослушать поступившие на мой телефон сообщения.
«Винс» – небольшой красного кирпича павильон в стиле «Колониального Уильямсберга», парковка его забита в эту ночь автомобилями, туристическими автобусами, домами на колесах, пикапами – моими соперниками с развязки. Толпа пассажиров и водителей, распугивая морских чаек, ошалело бредет к нему под тошнотворно оранжевыми фонарями, неся сумки для подгузников, термосы и прихваченные из машин мусорные мешки; все эти люди помышляют о пакетах с гамбургерами, атрибутиках «Гигантов», придуманных для розыгрышей презервативах, напоминают себе, что надо будет, уходя, заглянуть ненадолго в зальчик, где выставлены вещи, которые были свидетелями славных дней великого человека – сначала в «Шести гранитных плитах» [51], затем во главе «Пэкерса» («победа или смерть»), а еще позже – в роли пожилого руководителя возродившихся «Скинзов». Конечно, Винс родился в Бруклине, но тренерскую работу начинал в школе Святой Цецилии расположенного в этих краях Энглвуда, почему стоянка и названа его именем. (Такие сведения застревают в памяти человека, который занимался спортивной журналистикой.)
Воспользовавшись наступившим у бензоколонок временным затишьем, я первым делом заправляюсь, затем паркую машину на самом далеком от павильона краю стоянки, среди дальнобойных фур и пустых автобусов, и направляюсь к залу, переполненному, как универмаг перед Рождеством, но также и странно сонному (вылитое казино стародавнего Вегаса в четыре утра), с темным закутом позванивающих игровых автоматов, длинными очередями за гамбургерами и хот-догами и с семействами, которые прохаживаются по залу, полубессознательно, или сидят, препираясь, за пластмассовыми, заваленными бумажным сором столиками. Никаким 4 июля тут и не пахнет.
Я заглядываю в смахивающую на пещеру мужскую уборную, где писсуары омываются, как только ты закончишь, сами собой, а на стенах нет, что вполне разумно, фотографий Винса. Отстаиваю очередь к «Только эспрессо» и направляюсь с бумажным стаканчиком к череде телефонов, захваченных, как обычно, двадцатью дальнобойщиками в клетчатых рубашках и с большими бумажниками на цепочке. Каждый стоит, прислонясь к стене подвесной полукабинки и воткнув в свободное ухо палец, и болтает с далеким собеседником.
Дождавшись, когда один из них подтянет джинсы и удалится с видом человека, только что завершившего загадочный половой акт, я приступаю к делу – звоню на мой автоответчик, которого не слышал с трех часов дня, почти девять часов, и начинаю перебирать сообщения. (Трубка еще сохраняет стойкое тепло ладони дальнобойщика, равно как и запах лаймового одеколона, каким орошается мужская уборная, – аромат, который многие женщины сочли бы приемлемым и для себя.)
Первое сообщение (из десяти!) – от Карла Бимиша: «Фрэнк, да. Ну вот. Маленькие Фрито Бандитос [52] только что проехали мимо. CEY 146. Запиши на случай, если они меня прикончат. На сей раз заднее сиденье занимал третий мексиканец. Я позвонил шерифу. Беспокоиться не о чем». Щелчок.