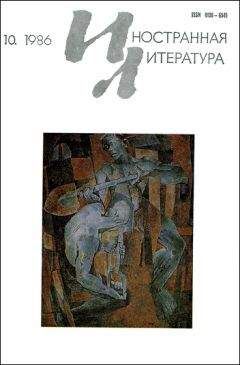Полубрат - Кристенсен Ларс Соби
Так мы и стояли, тесно прижавшись, одной семьёй, в пятницу в октябре. И вот тогда отец шепнул мне слова, которые один я расслышал: — Барнум, ври и сей сомнения. — Зачем? — удивился я. — Потому что тебя всё равно никто всерьёз не принимает. — Отец засмеялся. — Тем более что правда скучна, — добавил он, а я в эту секунду встретил взгляд Фреда, он глядел на нас из тени между дверью и комодом. Сколько времени он простоял так? Не знаю. Может, он был здесь всё время. А теперь улыбнулся. Он улыбнулся, и мне захотелось протянуть к нему руку. Но он помотал головой, закрыл глаза и отклонился в темноту. И мне подумалось: больше нас нет. Теперь мы тоже сгинем.
(родинка)
Я играл с мыслями. В основном с ними. Больше играть мне было не с кем. Мысли, которыми я забавлял себя, касались катастроф, болезней, смерти и других непоправимых несчастий. Они очень поддерживали меня. Ведь утешительно знать, что жизнь могла сложиться и хуже, неизмеримо хуже. Если б в нашей квартире начался, скажем, пожар, ну, например, в рождественскую ночь, ёлка занялась бы как спичка и рухнула бы на подарки, и меня, единственного, оставшегося в живых, нашли бы среди обгоревших останков мамы, Фреда и Болетты, а потом я ещё три месяца дышал бы через кислородную маску и лишь чудом восемнадцать хирургов сумели бы вырвать из лап смерти то, что от меня осталось, — вот тогда бы все кругом запели по-другому. Тогда б они поняли!!! Моих мучителей загрызла бы совесть, они на коленях приползли бы вымаливать прощение, и вот я, снедаемый болью, но по-прежнему великодушный, дарую им его, и обо мне взахлёб пишут газеты, сочиняют книги, ставят оперы и называют моим именем пароходы. Потому что все мои мечты сводились единственно к этому, к переменам: жизнь закладывает крутой вираж, и всё идёт совсем не так, как шло раньше. Я представлял себе, как хожу с обожжённым лицом, в бинтах, одинокий и прославленный. Так я грезил. Потому что по ходу игры мысли превращались в грёзы, а грезил я наяву, когда не спал, но ночью — никогда, ночью я не отваживался, зато днём я часами мог ходить, погружённый в эти фантазии, пока в изнеможении не опускался где-нибудь посидеть и выплакаться, часто на камне на вершине Стенспарка. Сила этих фантазий загоняла меня в странное безумие, я заливался слезами, я рыдал, грубая, насильственная драматургия моих грёз растравляла душу. Ради фантазий я себя не щадил. Воображение рисовало картину (болезни, неизлечимой, причиняющей нечеловеческие страдания, изматывающей, я на пороге смерти. И вот ко мне устремляются они, чтобы помириться, извиниться, подружиться, но — время вышло, я умираю и лишь напоследок выпрастываю руку, словно отпуская грехи всем, кто стоит в этот час у моего одра. Однако дальше этого я ни в мечтах, ни в мыслях не продвигался. К моему раздражению. У меня не получалось представить себя мёртвым, нет, то есть представить я мог, но никакой радости, ни на гран, я при этом не испытывал. Видение меня-покойника (в скромном ли гробу в крематории Вестре или в церкви Майорстюен), неизменно мимолётное, не удавалось зафиксировать, оно вело себя по собственному разумению и мгновенно пропадало, уходило, словно вода в песок. Фантазии на тему собственной смерти мне не давались, и всё. Как если бы я в глубине души отказывался в неё верить. Так что я предпочитал сюжеты про несчастья и катастрофы, в которых мне чудом, но удавалось выжить и стать центром всеобщего восторженного и сочувственного внимания. Я грезил, как сам, вместо Фреда, сижу на тротуаре неподалёку от погибшей под колёсами грузовика Пра, только, в отличие от Фреда, на мне не было живого места, поскольку я пытался спасти её, я сделал всё, что в человеческих силах, даже рискнул жизнью, но — тщетно, моим усилиям вопреки Пра умерла, её смерть делает мой горький жребий бесконечно жалким, и я как куль сползаю в водосточную канаву. У меня сломана нога, из глубокой раны на лбу хлещет кровь, и наружу выдавливается краешек мозга, похожий на тонкий картофельный оладушек, и все хлопочут надо мной, окружают почётом, я герой, я не жалел своей жизни ради чужой и тем самым проявил себя благородным человеком, настоящим. Меня точил, правда, страх, не есть ли фантазии уже грех. Пусть они удерживаются под спудом. Равноценна ли мысль злодеянию, если она живёт в голове, в дальнем закоулке, в тишине, невостребованная и не высказанная вслух? Так я размышлял. И доразмышлялся. Настал день, когда мне пришлось вытащить мысли из-под спуда. И поверить фантазии жизнью, которая оказалась чудовищно мала даже для меня.
Она училась в параллельном классе. Я долго наблюдал за тем, как она, по обыкновению, стоит во дворе под навесом, всегда одна, всегда отвернувшись. И наконец счёл её такой же одинокой, как я сам. Раскусить-то я её раскусил, но это ни на шаг не приблизило меня к ней. Да и что я себе вообразил? Что у Барнума появится подружка? Звучит дико, но именно это я втемяшил себе в голову: у меня заведётся подружка, а станет ей та, что вечно стоит в одиночестве под навесом, отвернувшись. У неё были светлые короткие волосы и родинка на левой щеке под самым глазом. В особенности родинка вдохновляла меня, изъян сокращал пропасть между мной и суженой, давал мне надежду и мужество, коли на то пошло, родинка и привлекла меня в ней, её клеймо, а моим был малый рост, недостаток сантиметров, тоже поневоле бросающийся в глаза каждому.
После уроков я пустился за ней следом. Я крался в некотором отдалении. Перебегал от угла к углу. Она не замечала меня. Она брела одна, ранец, видно, был пудовый, потому что она то и дело останавливалась передохнуть. Меня подмывало предложить ей помощь, я мог бы донести ей ранец до дому, для меня это плёвое дело. Ничем я ей не помог. Лишь выжидал, тайком наблюдая за ней из затенённой подворотни, где из всех замочных скважин и щелястых дверей пёрли густые обеденные запахи, они сползали по лестницам вниз и вызывали во мне тягучую серую тошноту, так что в конце концов меня вывернуло наизнанку под почтовыми ящиками, ломившимися от запоздалых открыток с пляжами и яхтами (дело было в сентябре). Когда я прочухался, Тале ушла. Её звали Тале. Поскольку я ещё загодя разведал, где она живёт, то теперь припустил туда, на улицу Нобеля, но увидел в окне третьего этажа только задёрнутые шторы.
Я долго проторчал там. Да без толку. Она больше не вышла. И я тихо побрёл домой, дорогой сочиняя, как самолёт разбился где-то в дебрях Африки и никто, кроме меня, не выжил. В этой истории был один скользкий моментик. Как я очутился в самолёте, летящем над Африкой? Надо было найти достойный ответ, потому что иначе история не считается. Наконец придумалось. Я победил в школьном конкурсе сочинений и летел на Мадагаскар, куда съезжались ребята со всего мира писать новые сочинения. Значит, по дороге самолёт разбивается, я волшебным образом спасаюсь, меня подбирает местное первобытное племя, никогда прежде не видевшее белого человека, и я провожу с ними три года. Дома, в Норвегии, когда надежд уже не остаётся, меня заочно отпевают в церкви на Майорстюен, и народу набивается столько, что череда желающих отдать мне последнюю дань растягивается до винной «монопольки». Пастор раздавлен горем и раскаянием и говорит с кафедры, что отныне все, наречённые именем Барнум, будут нести его с гордостью, а таких среди новорождённых мальчиков ещё долгие годы остаётся каждый второй. Фред произносит поминальную речь, он собственноручно написал её без единой ошибки, потому что безутешная тоска по мне излечила его от дислексии, он видит слова ясно и правильно, а меня он сохранит в своём сердце как преданного и одинокого сводного брата, хотя я был для него просто братом, самым лучшим, а рядом с мамой, отцом и Болеттой сидит Тале и горько рыдает, от меня ведь не осталось даже гроба, на который можно было бы положить цветы и упасть перед ним на колени, но пусть теперь сами выкручиваются, пусть управляются как хотят, я-то лежу в хижине в сердце Африки, и надо мной склонился знахарь ста примерно лет с продетой в нос стрелой. Он трясёт головой и бормочет что-то на ему одному понятном языке. И так я лежу из недели в неделю и из месяца в месяц, пью дождевую воду и питаюсь вываренными обезьяньими почками, пока однажды знахарь не потчует меня супом, который он приготовил из растений, растущих под землёй, отыскать их почти невозможно. И этот суп, густой, синий и пахнущий кошачьей мочой, совершает чудо, раны немедленно затягиваются, ко мне возвращается память, мало того, я начинаю расти, я лежу и чувствую, что удлиняюсь, ступни отдаляются, я едва могу их разглядеть, а когда я поднимаюсь на ноги, то оказываюсь выше всех, но продолжаю сомневаться, ведь вокруг пигмеи, и вдруг всё это оптическая иллюзия. Наконец, меня находит миссионер, прибывший с чемоданом библий (их он раздаёт первобытному племени) и зелёной войлочной доской (на ней он лоскутными куклами разыгрывает истории из жизни Иисуса). Я спрашиваю, какого он роста. Господь даровал мне сто семьдесят четыре сантиметра, отвечает он. Тогда я понимаю, что воистину подрос, потому что этот несчастный миссионер дышит мне в подмышку. Значит, во мне все метр восемьдесят. Он укладывает свой лоскутный вертеп, и я ухожу вместе с ним через джунгли, а в день, когда я приземляюсь в Форнебю, три месяца спустя, меня встречают тысячные толпы, они усеяли всё лётное поле, у них флаги и плакаты «Добро пожаловать к нам, Барнум!». В первом ряду стоит Тале с родинкой, но я прохожу мимо, а толпа хором ахает при виде моих ста восьмидесяти, они едва узнают меня, хотя в душе я остался прежним, добрым стариной Барнумом, у меня ведь золотое сердце. Фотографы сцепляются за право щёлкнуть меня, я иду мимо Тале, она пытается удержать меня, но я вырываюсь и бегу к Фреду, он кидается мне на шею (со дня поминальной речи он оставался безутешен и не мог прочесть ни буквы) и рыдает у меня на плече.