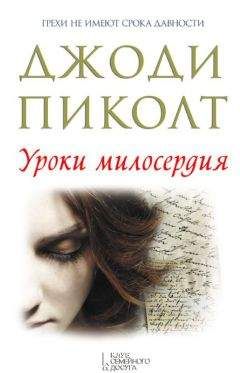Одинокий волк - Пиколт Джоди Линн
Вы считаете это убийством?
Волк считает это альтернативой.
Раньше я задумывалась о судьбе заключенных, которых осудили на пожизненный срок. А если у одного из них случится сердечный приступ и его признают мертвым, а потом врачи его реанимируют? Означает ли это, что он отсидел свой срок? Или именно поэтому дают два или три пожизненных срока?
А спрашиваю я потому, что в настоящий момент меня посадили под домашний арест, пока мне не исполнится девяносто лет.
Мама, разумеется, вернулась домой от автобусной остановки и обнаружила мое исчезновение. Не могла же я признаться, что направляюсь в Плимут на заседание присяжных, поэтому оставила ей слезливую записку, будто мысль о том, что папа там, в больнице, один, убивает меня. Мария отвезет меня туда навестить отца, но я обещаю не перенапрягаться, а мама не обязана меня сопровождать и сидеть там со мной, поскольку целую неделю не видела близнецов из-за моей операции и тому подобное… Я решила, что жалость пересилит злость, и оказалась права: разве можно сердиться на ребенка, который тайком сбежал из дома, чтобы проведать лежащего в больнице отца?
Если Дэнни Бойлу и показалось странным, что я прошу высадить меня в конце квартала, чтобы оставшуюся часть пути пройти пешком и не услышать от мамы вопрос, что за незнакомый БМВ подвез меня, то он ничего не сказал. Мама осторожно обнимает меня, когда я вхожу домой, извиняется за то, что накричала на меня вчера, и спрашивает:
– Как он там?
На секунду мне кажется, что она имеет в виду окружного прокурора.
Потом я вспоминаю о своем фальшивом алиби.
– Без изменений, – отвечаю я.
Она идет за мной в кухню, где я начинаю открывать и закрывать дверцы шкафа в поисках стакана.
– Кара, – говорит мама, – я хочу, чтобы ты знала, что это и твой дом. Навсегда. Если сама захочешь.
Я знаю, что у нее добрые намерения, но мой дом на другом конце города – где стоит жалкий диван, продавленный в тех местах, на которых любим сидеть мы с папой. В моем доме стоят натуральные шампуни и крема для бритья – чтобы не дразнить волков резким запахом, когда отец работает с ними. В моем доме одна ванная комната с двумя зубными щетками: розовой – моей, голубой – папиной. Здесь же мне приходится порыться в шести ящиках, прежде чем я обнаруживаю то, что нужно. Дом – это то место, в котором ты точно знаешь, где лежат столовые приборы, где стоят чашки и чистые тарелки.
Я поворачиваю кран, чтобы налить себе воды.
– Угу, – смущенно бормочу я. – Спасибо.
Я пытаюсь представить жизнь, в которой под кроватью меня будут постоянно поджидать маленькие приставучки, чтобы смертельно напугать; в которой я буду жить по часам; в которой мне навяжут перечень ежедневных обязанностей, вместо того чтобы поровну распределить домашние дела. Пытаюсь представить, как буду жить без папы. Возможно, он мало соответствует общепринятому образу отца, но именно такой мне и подходит больше всего. Помните разговоры, которые возникли, когда Майкл Джексон раскачивал своего ребенка, перевесив его через перила? Держу пари, мнения ребенка никто не спросил. А может быть, он был в восторге, потому что самое безопасное место на свете для него – папины руки?
Я слышу, как хлопает дверь, и через мгновение в кухню заходит Джо. Он выглядит помятым и каким-то отрешенным, но мама ведет себя так, словно явился сам Колин Фаррелл.
– Ты что-то рано! – восклицает она. – Я надеюсь, это значит, что смехотворные обвинения против Эдварда…
– Джорджи, – перебивает он, – мне кажется, тебе лучше сесть.
Мамино лицо напрягается. Я отворачиваюсь к раковине, выливаю воду и опять наполняю стакан, жалея, что присутствую при этом разговоре.
– Мне звонил окружной прокурор, – объясняет Джо. – Теперь Эдварда обвиняют не в нападении, а в попытке убийства.
– Что? – дивится мама.
– Не знаю, откуда дует ветер. Возможно, здесь замешана политика – его платформа строится на запрете абортов, а в этом году выборы, и этот процесс мог бы гарантировать ему голоса всех консерваторов штата. Он, возможно, будет играть на публику, а Эдвард станет козлом отпущения. – Джо смотрит на маму. – Ты была в палате, когда все произошло. Эдвард что-нибудь говорил или делал, что могло бы быть расценено окружающими как злой умысел?
«Да, – мысленно отвечаю я. – Он пытался убить моего отца».
– Я… я не помню. Все случилось так быстро. Одна минута – юрист больницы говорит, что процедура откладывается, а в следующую секунду – раздается сигнал тревоги и санитар хватает Эдварда… – Она поворачивается ко мне. – Кара, он что-нибудь говорил?
Он ничего не сказал. В том-то все и дело, а они на это не обращают внимания. Эдвард, прежде всего, не спросил меня, не против ли я убийства нашего отца; ему было абсолютно наплевать, что я категорически не согласна.
– Думаю, мне стоит прилечь, – отвечаю я, во второй раз выплескивая воду в раковину.
Мама присаживается за кухонный стол.
– И где сейчас Эдвард?
Джо медлит с ответом.
– Выходные ему придется провести в тюрьме. В понедельник утром ему предъявят обвинение.
Похоже, я не подумала о том, что мои поступки будут иметь последствия. Что из-за меня брат окажется за решеткой. И может провести там не один год. Я просто хотела как-то убрать его с дороги, чтобы заставить врачей прислушиваться исключительно к моему мнению. Но на самом деле я не задумывалась о том, где он в результате может оказаться.
Когда я сказала, что мне нужно прилечь, то всего лишь нашла предлог, чтобы покинуть кухню до того, как Джо поймет, что винить в ситуации, в которой оказался мой брат, нужно меня. Но сейчас я на самом деле считаю, что мне лучше прилечь.
Потому что я виновата в том, что разбиваю эту семью.
Что заставляю плакать маму.
Что не слушала ничьих доводов, кроме своих собственных.
А это означает одно: все, в чем я обвиняла раньше брата, я только что совершила сама.
Из стаи тебя могут изгнать.
Я видел обе стороны одной медали. Есть волки, которых настолько уважают за их знания и опыт, что когда они заболевают или получают увечья, вся стая заботится об их выздоровлении. Им приносят еду, их согревают, и стая будет передвигаться таким шагом, чтобы больной волк поспевал за остальными. И так до его выздоровления.
Встречал я и волков, которые понимают, что больше не могут приносить пользу стае, по косым взглядам, которые бросает на них альфа-волк. То ли из-за болезни, то ли из-за возраста. И возможно, во время следующего дозора или следующей охоты они намеренно решают уйти и не вернуться. Лечь в кустах. Умереть.
В тридцатисекундном телевизионном рекламном ролике о моих юридических услугах я предстаю строгим и сосредоточенным, стоящим, скрестив руки, перед рабочим столом. «Джо Нг», – произносит голос за кадром и запинается на моей фамилии, льющейся из динамиков. «Сама фамилия означает “Не виновен” [14]», – говорю я, и раздается звук от падения камня.
Да, эффектно, ничего не скажешь. Нг, разумеется, не расшифровывается «не виновен», но я не возражаю, когда судебные клерки машут мне рукой и так меня называют. Я первый ребенок в семье, который закончил колледж, что уж говорить о юридическом факультете. Мой отец рыбак из Камбоджи, а мама – швея, они переехали в Лоувелл, штат Массачусетс, прямо перед моим рождением. Что касается меня, я был «золотым ребенком», американской мечтой в одноразовых подгузниках.
Мне везло в жизни. Я родился девятого сентября в 9.09, а всем известно, что в Камбоджи «9» – счастливое число. Мама рассказывает историю о том, как она, когда я был еще младенцем, застала меня на заднем дворе со змеей в руках. И важно не то, что это был всего лишь безобидный уж, а то, что я мог бы задушить это создание голыми неловкими ручонками, что свидетельствовало о том, что я особенный. Отец был уверен, что я занялся судебной практикой не потому, что учился на одни пятерки, а потому, что он молился, чтобы Ганеш устранил все препятствия на пути к моему величию.