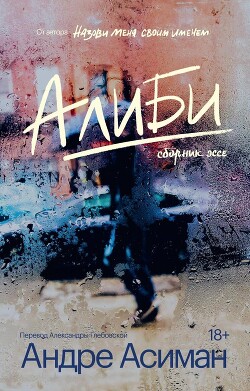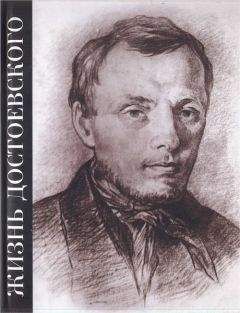Восемь белых ночей - Асиман Андре
Тут я поймал себя на том, что думаю: я захочу вернуться сюда снова – хотя бы ради того, чтобы вновь ощутить этот миг: захламленная комната, мороз, покойный пианист, мы с ней сидим необычайно тесно в этом стеклянном шаре собственного изобретения, а вокруг чего только нет – суп, брат Инки, Ромер вчера вечером, снег на Манхэттене и в Клермон-Ферране, тот факт, что, если Черновиц так и не узнал, что ждет его после того, как он сыграет вот этого Зилоти, он уж всяко не догадается, что через две ночи после того, как нам показали его мир в довоенной Европе, мы будем сидеть в этой комнате, точно очень давние и близкие друзья, слушать пианиста, которого вполне могли слышать в молодые годы мой дед и дед Клары и не подозревать при этом, что их внуки…
Когда музыка отзвучала, я сказал, что хочу выйти на воздух на пару минут. Ее не позвал.
– Я с тобой, – сказала она.
– Вы куда там? – спросила Марго, увидев, как мы выходим через кухонную дверь.
– Покажу ему реку.
Земля под ногами оказалась твердой, под снегом виднелись бурые проталины. Клара отряхнула трехколесный велосипед – одного из внуков, сказала она. Зовут Майлс.
– Тайного агента?
– Тайного агента, – подтвердил я, принимая сигарету.
– Дай зажгу.
Зажгла мне сигарету, потом отобрала – я не успел даже затянуться впервые за многие годы.
– Не в мою вахту.
Значит, покурить мне не дадут.
– Как ты думаешь, о чем они сейчас говорят? Обо мне? О тебе? – спросил я.
– Скорее всего, о нас.
Мне понравилось, что нас называют «мы».
Летом, сказала она, в округе Гудзон очень зелено, люди сидят вот тут, проводят все выходные в шезлонгах, а поесть и попить им приносят. Ей страшно нравились здешние летние закаты. Я видел, что она описывает время Инки, страну Инки.
Мы поплелись по узкой дорожке, обсаженной высокими березами. Кругом было бело. Даже кусты стали блеклого оловянного цвета – выделялись лишь каменная кладка вокруг дома и стена, обрамлявшая лесной окоем: изжелта-серые вечнозеленые растения. Я вообразил себе, как век назад тут останавливается экипаж. Мы постепенно приближались к какой-то грязноватой деревянной изгороди, она тянулась к деревянным мосткам и уходила дальше, к обшарпанной лестнице.
– Лодочная стоянка тут, внизу. Пошли.
Много лет назад Гудзон почистили. Теперь, если вас не смущают ил и угри, в нем можно плавать. Еще деревья, голый кустарник, покосившиеся стены, разделяющие участки.
Показалась река, а за ней – противоположный берег, белый и мглистый, зимний импрессионистический пейзаж.
Мне вспомнились поздние квартеты Бетховена. Я спросил, слышала ли она когда-нибудь квартет Буша. Может, ребенком в родительском доме, сказала она.
На подходе к реке мы услышали потрескивание, оно становилось все громче, будто били по наковальне железными прутами. Хруп-хряп-хряп. Лед на реке ломался, звякал и лязгал, льдины толкались друг о друга, комкая опрятное белое ледяное полотно, на которое мы недавно смотрели из дома; кусок за куском, заледеневший Гудзон уплывал вниз по течению, внизу обнаруживалась темная, грязная, прожорливая вода. Похоже, Гудзон решил сыграть нам свою вариацию Зилоти – хруп, хряп, хряп, хряп.
– Слушал бы часами, – сказал я. Имел я в виду следующее: с тобой я готов быть часами – готов быть с тобой вовеки, Клара. Все остальное – вымысел, может, вымысел и ты, но вот сейчас я слышу, как нам подают музыку во льду, а сердце мое не во льду, и я знаю, что твое тоже. Почему рядом с тобой, такой язвительной и колючей, я чувствую себя дома? – Слушал бы хоть весь день, – повторил я.
Я забыл, что в мире Клары не положено петь гимны природе, закатам и рекам, не положено петь в душе. За руки держаться, видимо, тоже не положено.
– Не нравится? – спросил я.
– Так, более или менее.
– А что нравится? Скажи.
Она повернулась ко мне, потом посмотрела в землю.
– Тогда нравится, – сказала она. Мини-концессия, расторгнутая сразу после заключения.
Сколько будет продолжаться лежание на дне?
Не знаю, что на меня нашло, но я спросил:
– Сколько будет продолжаться лежание на дне?
Она, видимо, это предчувствовала или сама думала о том же, возможно, в тот самый момент гадала, скоро ли я задам подобный вопрос. Видимо, поэтому не спросила, почему я спрашиваю.
– Как мне представляется, всю зиму.
– Так долго?
Она подобрала камушек и забросила далеко в реку. Я тоже подобрал и сделал то же самое, чтобы летел как можно дальше.
– До Белладжо камень можно добросить, – сказал я. – И все же.
Она сказала: ей нравится слушать, как камень ударяется об лед, особенно если камень тяжеленький. Бросила еще один. Я швырнул еще и еще. Мы стояли и смотрели, куда они падают.
– Мне, наверное, нужно время.
Фразу она не совсем закончила. Но я догадался.
– Клара, ты удивительная женщина, – сказал я. – Просто удивительная.
Она не ответила.
– Приятно хоть от кого-то это услышать. – А потом, дослушав собственную фразу, не сдержалась: – «Приятно хоть от кого-то это услышать».
Она передразнила саму себя.
– Тем не менее удивительная.
Мы еще покидали камни на льдины, послушали, как лед охает в ответ – будто пингвины выпрыгивали на ледяные поля, чтобы добыть еды своим птенцам, и думали, что мы кидаем им хлеб, – а мы кидали камни на льдины.
По пути обратно я протянул ей руку. Даже не думая. Она дала мне свою, и мы начали подниматься по деревянным ступеням к мосткам. Там она отпустила, или я отпустил, или мы оба.
Когда мы вернулись, суп уже был готов. Марго положила сливок в свою тарелку с густым золотистым бульоном. Клара тоже. Суп для холодной погоды, пояснила Марго. Поставили простецкий прямоугольный стол, Макс сидел во главе, Марго слева от него, Клара непосредственно справа, я с ней рядом.
– Хотелось, чтобы Клара сидела слева от меня, – сказала Марго – настроенная явно весело, болтливо. – Но жаль вас разлучать.
Что, господи прости, они думают? Чего им наговорили?
Я попытался бросить на Клару вопросительный взгляд, но она, видимо, предвидела это и сосредоточилась на супе, делая вид, что не расслышала замечания, которое не расслышать – я это знал – не могла. Она расхваливала суп, а еще громче – свежие сливки, расхваливала карри.
– Это, скажу я вам, обед-за-час-и-ни-секундой-больше. Включая десерт, – пояснила Марго.
– А я, – вклинился Макс, – скажу вам, что хорошее вино способно спасти любое варево, включая и то, которое ты настряпала за час и есть которое не станут даже еноты.
– Скажи спасибо, что есть кому готовить для твоих гнилых десен.
– Скажи спасибо, что есть кому поглощать то, что перед гостями приходится именовать «обедом».
Клара рассмеялась первой, потом Марго с Максом, потом я.
Обычная семейная перепалка, догадался я.
Я сижу там, где обычно сидит Инки, подумал я.
Суп, хлеб, сливки, вино, которое постоянно подливали, – все было изумительным; вскоре нас ознакомили с последним злосчастьем Макса. Колени. В молодости он участвовал в археологических раскопках и теперь, ближе к девяноста, расплачивается за свои безрассудства под Экбатаной.
– Большинство моих ровесников лишились разума. Мой – как новенький. А вот тело сдает.
– А вы откуда знаете, дедуля, что у вас разум как новенький? – осведомилась Клара.
– Рассказать откуда?
– Извольте.
– Предупреждаю, история будет неприличная, уж я его знаю, – вмешалась Марго.
– Так вот, этак месяц назад из-за этих чертовых коленок – кстати, мне их в ближайшее время заменят, так что ты с ними видишься в последний раз – меня отправили на МРТ. Спросили, разумеется, дать ли мне наркоз и страдаю ли я клаустрофобией. Я рассмеялся им в лицо. Я всю Вторую мировую прошел, не глотая даже аспирин, – а теперь мне нужен наркоз, чтобы влезть в ящик с дыркой? Ну уж нет. Залез. И как только залез, вдруг понял, что именно так и выглядит смерть. А машина начала так загробно трястись и гудеть, что захотелось попросить наркоз. Беда в том, что двигаться было нельзя: двинешься – и процедуру отменят. Решил я взять себя в руки и потерпеть. Вот только сердце колотилось, как бешеное, и я ни о чем не мог думать, кроме шума, который теперь сильнее прежнего напоминает мне адский стук мертвой статуи в «Дон Жуане»: бам, бам, бам! Попытался думать про Дона, но думалось только про ад. Все, смерть. Нужно подумать о чем-нибудь тихом, умиротворяющем. Ни одного тихого умиротворяющего образа. Тут меня спасла память: я решил пересчитать и вспомнить по именам всех женщин, с которыми спал, год за годом, включая и тех, от которых в постели было настолько мало радости, что возникал вопрос, стоило ли раздвигать Красное море, если у них за душой ни крупинки манны, да и моя манна им ни к чему. Это не говоря уж о тех, которые отказывались раздеваться или соглашались сделать это, но уж всяко не то, или у которых были перебои в моторе, так что в финале – пусть вы в одной постели и даже успели уснуть – пойди пойми, одолели ли вы вершину. В общем, принялся я их считать, и общий итог получился…