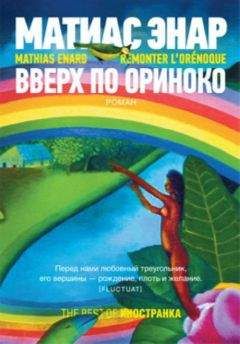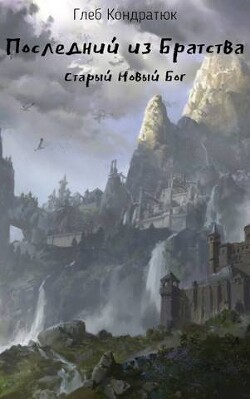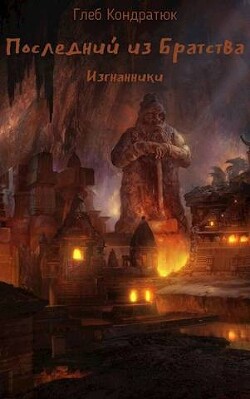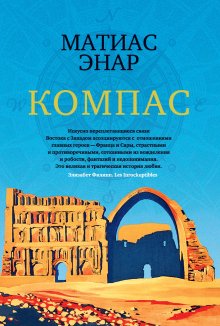Ежегодный пир Погребального братства - Энар Матиас
Трепещет крылами чепец белоснежный,
Румяная щечка, как персик, нежна Ламот!
Твои девы прелестны и свежи!
И с ними сравнится лишь роза одна.
Вся деревня готовила этих скромниц-розьерок на выданье и снабжала приданым, а потом отдавала за какого-нибудь трудягу, вьючного осла, скотину в человеческом обличье, который даром получал замечательную жену. Единственное неудобство было в том, что брать разрешалось только одну такую розочку, а не всю корзину! Одну — и на всю жизнь! О, как прекрасны эти недотроги в чепцах! И вот сидят они у себя в доме розьерок, и вдруг перед ним воткнулось распятие, бац! Одна из них звалась Людивиной и очень была благочестива, очень набожна; как увидела она железный крест, так сразу упала на колени и стала молиться, потому что узнала его и сразу поняла, что это ее призывает к себе святая Радегунда. Чудо! Осанна! Свят-свят! Поспешай в Пуатье, отвечай на зов! И отправилась Людивина пешком через Пампру и Лузиньян. В чепце, естественно. И прибыла туда на следующий день к полудню.
Гаргантюа все почивал себе, все лежал на крыше с воздетой ракетой; а демонстранты так и сражались внизу со стражами порядка. Великан снова видел сон; а прибор его аж дрожал и шел волнами, изгибался, как змея. Или пальма под ветром. А рядом ядра висели колоколами, иногда вдруг льнули к древку, будто озябнув, как колеса на оси жмутся к пушке, или голубые планеты к небесной оси. Волнение ствола, активное и регулярное, обещало грозу. Полицейские на этот раз успели подготовиться и получили на складе гидрокостюмы.
Людивина увидела великана — он лежал на крыше, положив голову на колокольню, просунув ноги в световые люки фасада, и блаженно улыбался, весь отдавшись сладким грезам. Вдруг он без задней мысли почесал себе пузо и ляжку и перевернулся, и ненароком обрушил град черепицы на битву смутьянов и стражей порядка, которая все еще продолжалась у него под ногами, между собором и рынком; розьерка чуть не лишилась чувств от горя, увидев, в каком состоянии паперть и какой урон нанесен святому месту, и отбежала в сторонку подумать, прямо на могилу святой Радегунды. Говорят, что сама святая вдохновила ее подсказкой: Людивина, спаси собор! Людивина, пожертвуй собою! Людивина, утешь Гаргантюа!
Легко сказать! Розьерка была по всем параметрам нормальная девушка, даже чуть мелковата; как же помочь беде? Прицепить туда по-хитрому железный ошейник? И волов к нему пристегнуть, чтобы яйца назад оттянуть? Девушка была смелая и к тому же хорошая пловчиха, не боялась никакого лиха; так что побежала Людивина наверх по лестнице одного из шпилей, куда великан опирался левой ногой, если вы не забыли. Гаргантюа снова крепко спал и блаженным храпом своим всю крышу сотрясал; Людивина едва не растянулась. Да и воздух летел у него из носа с такой силой, что чуть не сорвал с нее чепец. За что бы уцепиться, чтобы вконец не разбиться? Вот и обхватила она эту штуковину руками, едва руки сошлись. И точно, как марсовый матрос лезет на фок, так и розьерка стала карабкаться вверх по стволу. Обхватила его ногами, цеплялась за синие вены, выступавшие на узле; забиралась, как дитя на старое дерево, и влезла по этому гигантскому фаллосу на крайнюю плоть и встала, точно на балконе: ну прямо муэдзин на минарете, а не Людивина! Тем более чепец у нее развевался на ветру, как чалма! И обратилась она к демонстрантам:
«Тише, друзья! Мир! Оставьте раздоры! Да услышит президент голос народа! И Бог с вами!»
Могильщики от души рассмеялись — вот уж удивительная розьерка, взывает к Богу и к президенту одновременно! У очага сальщики, ответственные за умасливание зайцев, поливали нанизанных на вертел животных растопленным салом; аромат стоял такой, что хоть душу продавай, хоть в пламя бросайся, чтобы вгрызться в дымящуюся хребтину или оторвать бедро и обсосать лапки. Так что, борясь с таким искушением, оба сальщика-могильщика выпивали, и если один ненароком протягивал руку к зайчатине, другой орошал ее жидким жиром; обжегшись, его товарищ засовывал пальцы в рот и уже не чувствовал ожога, а только вкус соли, сала и дыма. Мясо поливали во все время приготовления, в этом был главный секрет; в очагах горели поленья; угли выгребали лопаткой в переднюю часть, где вращались вертела со сложными гирями, под бдительным оком двух присмотрщиков, двух могильщиков — старых и простоватых. Рядом на маленьком столике предусмотрительно поставили бочонок, потому как от вращения вертелов ох какая на них нападала жажда! И вертельщики промачивали горло самым лучшим вином, розовым до кро-вавости, до вожделения, отжатым из винограда за одну ночь, свежим соком цвета бедра нимфы в лучах солнца, струей осенней зари… и все им завидовали, и всякие там шишки вроде Куйлеруа и Сухо-пеня, Биттезеера, и делегации из Мозеля или Вогезов, вспоминавшие свое легендарное розовое гри-де-туль и лотарингские сыры, запеченные на двух ломтях грудинки и черного хлеба — крупного лотарингского хлеба, добрых десять фунтов, с поджаристой корочкой, натертой чесночком, что проскакивает внутрь, как сливка мирабель! Ах, этот раклет с «гро лорреном» возле жаркого огня! А вельш! А солнуа! Скорее бы сыры!
Могильщики разговлялись только раз в году, на своем пиру, но как разговлялись! Им дозволялось все. Весь остальной год был для них лишь одной бесконечной тоской, хвостом кометы, уносимой Смертью… Пока Вертело делал небольшую паузу, чтобы сполоснуть глотку, подали бульон — говяжий бульон, в котором плавали дикий тимьян и эстрагон, бульон из хвоста и голяшки с пастернаком, сельдереем и луком, иначе во что было втыкать гвоздику! Так что бульон этот был с глазами! Похлебка дымилась, могильщики пускали слюни! Некоторые (опция редкая, но допускавшаяся) предпочитали отвар из весенних грибов (мартовских сыроежек, розовопластинников и сморчков) и лакомились им. И неслучайно: Безносая — подруга ферментов и плесени! Слышалось только дружное дутье, чмоканье и всасывание, бульканье и глотание, и звон ложек.
Подвыпившие вертельщики переворачивали зайцев, продолжая лакать свое жаждоутоляющее, а Вертело, втянув запах горячего бульона, благоразумно предпочел дать ему остыть и возобновил свою речь:
— Итак, Людивина ухватила крайнюю плоть Гаргантюа, как дамасский цирюльник, крепко, смело и изящно. На паперти дополнительные наряды полиции вылезали из машин; активисты отступали, теснимые подавляющей силой противника, а также дубинками и слезоточивым газом.
Тут-то и открыл глаза Гаргантюа, опечаленный тем, что очнулся не во сне, не подле своей Бадебек, а на крыше собора Пуатье. Его охватила неодолимая грусть, он увидел, что все в нем восстало, и взял себя в руки. И так, сжимая свой член в руке, он сдавливающим движением прошелся по нему снизу вверх с силой, необходимой для сжатия такого количества плоти с помощью запястья, — и поднявшимся ветром Людивину вознесло в воздух вверх тормашками, и полетела она, как птица. Трижды перекувырнувшись, приземлилась прямо в зияющую дыру — и провалилась в уретру. Гаргантюа ощутил какой-то не лишенный приятности зуд, от которого кожа его мошны напряглась. Людивина же заскользила вниз, как по ледяной горке, — будто Иона во чрево кита, и оказалась в плену в семенном канале. Барахтается она, как может. Машет руками-ногами. Но уровень повышается. Она едва справляется. Изо всей силы колотит по стенкам, а Гаргантюа ужом на соборе вертится. Ой! Ай! Хи! Хе-Хе! Вау! Ой, мамочки! Изнутри что-то щекочет! Меня трясет и пучит! Глаза Гаргантюа широко раскрыты, готовы вылезти из орбиты, боже мой! Даже щеки у него запали, в таком он сейчас запале, он весь крутится, выгибается, едва чувств не лишается, то краснеет, то сопит, едва с собора не слетит: ах, сейчас меня разорвет! Что за переплет! Взрыв, фейерверк, ура! Мне это очень нра…
И вот Людивина снова оказывается в воздухе верхом на белом облаке, пенистом, воздушном и обильном, хлюпком и липком, которое выстреливает, как хлопушка, и растекается, как болото.