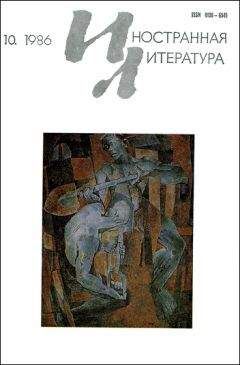Полубрат - Кристенсен Ларс Соби
Тем вечером сон не шёл никак. Мама не ложилась, она ждала отца и нервно вышагивала взад-вперёд, выглядывала в окно, присаживалась на диван, но усидеть не могла. Болетта спрятала некролог в тот же ящик, что и письмо из Гренландии. От внезапного навязчивого страха, как бы мамин ложный звонок в «скорую» не обернулся теперь правдой, у меня скрутило живот, содержимое желудка забродило и запросилось наружу. Но тут я получил удар в лоб. Это оказался тугой катышек обёрточной бумаги, запущенный Фредом. А когда Фред что-нибудь кидал, он обычно не промахивался. От него разило табаком, запах доносился даже туда, где без сна лежал я. — Он чуть не помер? — спросил Фред. — Так нам показалось, — прошептал я. — Как он выглядел? — У него посинело лицо, — сообщил я тихо. — Насколько? — Что ты имеешь в виду? — Фред запустил в меня новым катышком. — Он стал слегка синим или очень синим? — Я задумался. — Он был совсем синий, — ответил я. Фред хмыкнул в темноте. — Он чего-нибудь сказал? — Да, — прошелестел я. Фред потерял терпение и больше не хмыкал. — Барнум, ты разговариваешь только из-под палки? — Не сердись, — сказал я. Фред застонал: — Барнум, я не сержусь. Теперь отвечай — что он сказал? — Это он и сказал: «не сердись». — Фред долго лежал молча. Потом спросил: — А мама что? — Сказала, что не сердится, — ответил я. Фред ругнулся. И тут пришёл отец. Он не стал крадучись пробираться вдоль стеночки. О нет, он пришёл в полный рост, не стараясь казаться меньше, чем всё же был. Так он был устроен: сию секунду повержен, а через минуту вновь на коне, удары сыпались на него — и отскакивали, то, как он, весь синий, жалко бился на могиле Пра, уже быльём поросло, теперь — снова-здорово! — триумф и громогласность. Я побежал в гостиную. Ползая на коленях, отец разворачивал на полу огромную карту. Я встал между мамой и Болеттой. Он разворачивал Европу, она оказалась размером почти с наш ковёр. Отец звонко хлопнул кулаком по карте. — Вот! — крикнул он. — Белладжо здесь! — Мы нагнулись посмотреть. Белладжо нашлось в самом верху Италии, рядом с маленьким синим озером под названием Комо. — Далеко от нас, — прошептал я. — Далеко? — вскинулся отец. — Да это не дальше, чем до Рёста. — Отец покачал головой и упёр второй кулак в Рёст. — Тоже мне, огромная Европа — этой картой только нос подтереть! — Ишь развоевался, — сказала мама и засмеялась. Но отец и не думал униматься. Он лицедействовал. Упивался моментом. — Вот если б мы собрались в Америку, тогда уместно было бы говорить о расстояниях — А где Гренландия? — Все обернулись к Фреду. Он стоял, подперев стену, с перекошенным лицом. — Хороший вопрос, Фред. Здесь на карте Гренландии нет. Но если ты посмотришь под диваном, там она должна найтись. — Фред не шелохнулся. — Я думал, ты умер, — сказал он. Стало очень тихо. Фред повернулся и ушёл спать прежде, чем кто-нибудь успел открыть рот. Отец засмеялся, но с опозданием, причём смех как-то не подходил к выражению лица. Я заполз под кровать поискать Гренландию, но нашёл лишь облепленную пылью пастилку и винную пробку, от которой шёл тяжёлый и сладкий запах. Отцу пришлось вытаскивать меня наружу. — Смотри внимательно! На этой машинe можно объехать всю Европу, — сказал он и протянул мне спичечный коробок. Я долго разглядывал его. — Это нe машина, — шепнул я. — Машина, Барнум. — Это — спичечный коробок, — сказал я. Отец испустил вздох. — Нет, — ответил он чуть более колючим голосом. — Присмотрись получше. Ты увидишь, что это, конечно, машина, более того, кабриолет «бьюик-роудмастер». — Я присмотрелся изо всех сил. — Теперь вижу, — выдохнул я. Отец положил руку мне на плечо. — Но если ты решишь плыть, то она может превратиться и в судно тоже. — Он вытащил спичку и воткнул её в крышку. — Видишь? Теперь ты можешь пройти вдоль берега, например, в Рёсте. — Пап, мне больше нравится ездить на машине. — Отлично, Барнум. Только не забывай о левостороннем движении в Швеции. — Отец прикурил сигарету от мачты, и коробок снова превратился в машину, в «бьюик», просторный для нас всех. Я лёг животом на карту и начал своё путешествие из Осло на юг. Растрясло меня раньше, чем я добрался до Свинесюнда, а Скагерак вообще доконал. Я не заметил, как мама относила меня в постель. Я думал лишь об одном — как бы не вырвало. Больно крутыми оказались повороты. И скорость запредельная. Луна висит в заднем стекле, как золотой руль. Я паркуюсь. Ночь — это гараж. Фред спит беспокойно. Каждый раз, когда ты закрываешь глаза, ты делаешь скачок вперёд. Одно моргание равноценно одному кадру фильма о твоей жизни. Во сне я склеиваю куски плёнки, сращиваю время так, чтобы у водянистого студня получился крепенький срез. Я маленький божок, который вырезает всё, чего не было в сценарии. А когда отец будит нас, комната залита светом, лето и у мамы день рождения.
(божественная комедия)
И мы крадёмся к маме. Первым идёт отец, он несёт зажжённую свечу, но её пламя едва различимо в свете солнца, затопившего комнату. Болетта напекла, как она утверждает, плюшек, но я думаю, что она вчера купила их на Майорстюен, а сегодня погрела в печке и понатыкала лишних изюмок. У нас с Фредом готово по подарку для мамы. Мы останавливаемся в дверях и поём именинную песню Happy Birthday! Отец старается громче всех. У него узел на халате расплёлся. Мы выводим второй куплет. Мама тихо лежит в кровати спиной к нам и головы не поворачивает. Мы тоже замолкаем. Отец приходит в нетерпение и тихо окликает: — Вера! С днём рождения! — Никакого ответа. Она или спит, или не желает нас слышать. Болетта хмурится. — Пожалуй, оставим её на время одну, — говорит она. Фред бледен, плоский пакетик с подарком он сжимает обеими руками. Отец принимается спорить: — Так не пойдёт. У неё день рождения! — Его голос задувает свечку, и тут наконец мама поворачивается. Лицо серое, измождённое, я едва узнаю её. Волосы висят космами, как будто она ни разу в жизни не наведывалась в парикмахерскую. Она смотрит на нас огромными сухими глазами. Может, не узнаёт нас? И принимает за чужаков, нагло вломившихся в спальню? Мне страшно так, как не было, наверно, ещё никогда в жизни. На глаза наворачиваются слёзы, но я не решаюсь зареветь, лишь всхлипываю. Фред лягает меня по ноге. Отец идёт к кровати. Болетта удерживает его за плечо, но он стряхивает её руку. Он озадачен и обижен. — Вера, ты не заболела? — Мама отлепляется от подушки. — Сколько мне лет сегодня? — спрашивает она. Отец останавливается. Издаёт смешок. — Так, так, ты и это забыла, — говорит он. — Сколько мне лет? — настырно повторяет мама. Я было открывают рот, но Фред лягает меня ещё больнее. Поэтому отвечает отец. — Дорогая, — говорит он, — сегодня тебе ровно тридцать пять лет. Ни днём меньше и ни часом больше. — Мама сползает опять лицом в подушку, она пластается по кровати, как тень. — И что я получила от жизни? — спрашивает она. И сама же отвечает — Ничего! — и лупит по матрасу. Мне хочется, чтоб она перестала так говорить. Как выжить, если твоя мама несчастна и всё ей безразлично? Она сердится на нас, это понятно, хотя чем мы провинились? Я сжимаю зубы так, что сводит скулы. Болетта отставляет поднос с кофе и булочками. — Ну, ну, — шепчет она. Отец стоит как в воду опущенный и пытается изобразить улыбку. — Ничего? Ты чуточку преувеличиваешь, верно? — Мама вперяет в него глаза, в которых горит такая ненависть, какой я сроду не видел. — Преувеличиваю?! Ну, Арнольд Нильсен, расскажи мне — что я получила от жизни?! — Отец задумывается. — Во-первых, ты получила двух отличных парней, — говорит он. Мама заливается слезами. Фред подходит к ней и кладёт на одеяло свой подарок. — Поздравляю с днём рождения, мама, — говорит он громко. Помешкав, мама нерасторопными руками медленно вскрывает обёртку. Это хлебница. Фред сделал её на труде. Сверху он выжег МАМЕ ОТ ФРЕДА оплывшими коричневыми буквами, они ещё пахнут жжёным, и нет ни одной ошибочки. Но мама едва ли замечает всё это. — Спасибо, — только и буркает она чуть слышно. На лице Фреда проштамповано «разочарование», он сглатывает, чтобы скрыть его, да где там. Отец хлопает его по плечу. Фред фыркает и вырывается. Настаёт моя очередь. Я вручаю маме свой подарок. Она разворачивает его, так же устало: мол, всё пустое. Это кольцо для салфетки. — Спасибо, — бормочет она, не глядя на меня. Потом она запихивает хлебницу и кольцо в тумбочку и прячется под одеяло. Отец в растерянности. — Ну вот, — говорит он, — теперь нам не хватает лишь хлеба и салфетки. — Из кровати ни звука. — Раз ты получила хлебницу и кольцо для салфетки, — растолковываю я. Отец громко смеётся. В одиночку. Мама смотрит на него самыми узкими на весь Фагерборг глазами. — Если тебе нечего дать мне, кроме твоего фальшивого смеха, убирайся! — Отец не уходит. Он оскорблён. До глубины души. Но он не уходит. Он потуже затягивает ослабший пояс халата. Болетта приносит «Малагу» и щедро наливает полный стакан, но мама не желает пить. Тогда Болетта выпивает его сама, а я втягиваю сладкий и жаркий аромат, и на пьянящее мгновение он заставляет меня отвлечься и забыть, что у мамы день рождения, что она несчастна и не радуется подаркам, которые мы ей сделали. — Я даю тебе не свой смех, — дрожащим голосом говорит отец. — А что ж тогда? — спрашивает мама, не глядя на него. Болетта подливает «Малаги» в стакан. Но маму она по-прежнему не прельщает. Я оглядываюсь на Фреда. Он сжал кулаки. Отец подходит поближе к кровати. — Я даю тебе не свой смех, — повторяет он, — а твой. Я заставляю тебя смеяться. — Давно уж нет, — шепчет мама. В ответ на такое несуразное заявление отец долго качает головой. — Это что же, я пересёк всю Европу с чемоданом, полным аплодисментов, а не могу рассмешить Веру Нильсен с Киркевейен? — Мама вздыхает и отгоняет его взмахом узкой руки, пальцы болтаются, как неживые. Вот я и узнал. Мы ей надоели. Мы ей больше не нужны. У меня сводит болью внизу живота. И жжёт где-то пониже сердца. И вот тогда отец откалывает-таки коленце в коронных своих традициях. Вернее всего, он выжидал именно этот момент, поставил всё на одну карту. Молча, сгорбившись, он плетётся к двери. Вдруг — останавливается. Поворачивается к нам. Расправляет плечи и щёлкает пальцами, словно вспомнив, что забыл сказать ещё кое-что. А затем он переиначивает ситуацию. Выворачивает тягостный момент наизнанку — и завоёвывает публику. Он превращает невыносимое в нечто, с чем можно жить. Выжимает смех из уныния. Я так жалею, что он не сказал этого сразу, с самого начала! — Если я теперь не могу рассмешить тебя, может, мне позволено будет пригласить тебя в поездку по Италии? — В спальне делается совершенно тихо. Мы все выкатываем глаза на отца. Он качается на носках своих старых тапок, нащупывает в кармане халата половину сигары и вставляет её в рот. Даже лежащая в кровати мама теряет безразличие и недолго удерживается от того, чтобы не повернуться к нам. — О чём ты говоришь? — спрашивает Болетта. — Я говорю о прославленной Италии, — отвечает отец. Болетта громко прочищает нос и добавляет себе «Малаги». Медленно приподнимается мама. — Италии? — шепчет она. Вот он — триумф. Отец заставил-таки разрумяниться мамины щёки и распушиться её волосы. Он завоевал её, в очередной раз. Отец бросает на меня быстрый взгляд через плечо, как будто мы сделали это сообща, как будто с помощью хлебницы, кольца для салфетки и мечты об Италии мы вместе вернули мамино расположение августовским утром 1960 года, в день её тридцатипятилетия. Отец прячет сигару на место в карман и присаживается на кровать. Он невозмутим и спокоен. Ловко повязав нас по рукам и ногам, он затягивает путы, затягивает до предела, пока они не начинают лопаться, пока мама не поднимает руку, чтобы вытрясти из негo подробности. В эту последнюю секунду он упреждает её словами: — Однажды ты поехала со мной на остров на Крайнем Севере, чтобы окрестить Барнума. На этот раз я хочу позвать тебя далеко на юг. — Мама снова замолкает. Глаза как два вопросительных знака. Теперь отцова очередь вздыхать, не тяжело, нет, добродушно и покровительственно. — Чем плоха идея проведать Флеминга Бранта, дружка-некрофила Пра из Белладжо? — Болетта топочет ногами: — Он лишь написал некролог, Арнольд Нильсен! И спасибо ему, не надо его трогать! — Отец смеётся: — Сказавши «А», говори «Б». Ну, ты едешь? — Нам это не по карману, — шепчет мама. Отец лишь пожимает плечами, смакуя удовольствие. — Смотря что у кого в кармане, — говорит он и движением фокусника вынимает из халата пакет, снимает с него коричневую обёртку, и мы видим, что это деньги, пачки купюр, мы перестаём дышать и подаёмся ближе. Я беру Фреда за руку, он не вырывает её. — Итальянские лиры, — шепчет отец. Болетта сморкается оглушительнее прежнего и заявляет, что этому богатству цена пол-эре. Но отец пропускает её слова мимо ушей. Ему более любо смотреть на маму, она берёт одну бумажку и тут же роняет её, быстро и недоверчиво, и становится собой обычной. — Где ты взял деньги? — спрашивает она. Отец понимает, что так он сдаст отвоёванные позиции, что нужно идти в наступление и раздавить сомнение и недоверие в зародыше. Ответ у него наготове. — Это окончательный расчёт за «бьюик», дорогая, — говорит он. И чмокает маму в щёку. Не вызывая сопротивления. Болетта почти что вклинивается между ними. — И как же мы, по-твоему, отправимся в Италию? Пешком, на своих двоих? — Отец смотрит на неё с бесконечно терпеливым выражением лица. Сейчас он увенчает возведённую конструкцию своего триумфа шпилем: он решил превзойти самого себя. Сегодня он точно на равных с Всемогущим. — Я думал, проще поехать на машине, — говорит он. И машет в сторону окна. Мы кидаемся к нему, рывком сдвигая занавески. Там внизу, на углу стоит единственный на всю улицу автомобиль. Не «бьюик-роудмастер», конечно. Скорее чёрный ящик на колёсах. «Вольво-дуэт». А себе отец купил новые шофёрские перчатки из чёрной кожи. Он обнимает маму. — С днём рождения, любимая! — говорит он.