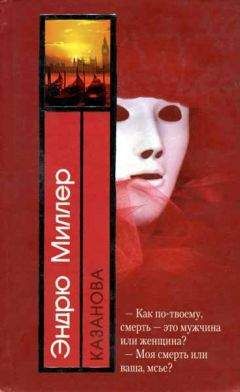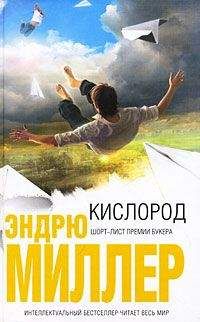Казанова - Миллер Эндрю Д.
Шевалье еще дважды заходил в дом на Денмарк-стрит и дважды покидал его без ответа. Он до того устал, что его тело, казалось, брело где-то сбоку или сзади, а иногда и нависало над ним. И лишь когда в конце последнего путешествия Жарба взял его за руку, довел до Пэлл-Мэлл и его спальни, помог раздеться и усадил к огню, Казанова почувствовал, что лишился этой проклятой ночью всех оставшихся сил.
Он заплакал. Жарба утешал его. Жарба никогда не терял душевного равновесия, ведь его прежний хозяин выбросился за борт корабля на глазах у слуги и больше не всплыл на поверхность. Они поищут утром. Они ее найдут. Разумеется, она ушла к какой-нибудь приятельнице. Вероятно, к мисс Лоренци.
— Благодарю тебя, Жарба, — пробормотал шевалье и, точно инвалид, позволил уложить себя на гору подушек и одеял. — Caro [34] Жарба, как ты думаешь, дождь когда-нибудь перестанет лить?
Жарба не ответил ему. Он ушел. Казанова попытался прочесть молитвы, но когда закрыл глаза, то увидел не Шарпийон и ее парикмахера, изображавших на кушетке животное с двумя спинами, а самого себя. Или, точнее, себя в их восприятии. Эта картина повторялась сотни и тысячи раз. Вот он вбегает в комнату, бледный, с перекошенным ртом. Каким же чудовищем он им показался…
Его часы гулко жужжали в кабинете у кровати. Внезапно ему стало ясно, что он не уснет, а уж если уснет, то навеки, с пулей в голове.
Где-то неподалеку должны быть его пистолеты — длинноствольные орудия убийства хряков. Очевидно, он оставил их в одном из дорожных баулов. Или Жарба успел спрятать их в нижний ящик комода? Не попросить ли его их достать? Но мысль о том, как он, спотыкаясь, бродит по комнате в поисках пороха и пуль, была слишком горькой и унизительной. Не лучше ли нанять профессиональных убийц, которые приплясывающей походкой войдут к нему и удушат руками в перчатках? Такие люди непременно найдутся в огромном Лондоне.
Пламя свечи превратилось в узкую полоску света, затрещало и погасло. Через минуту он услышал, как в доме напротив распахнулось окно и хорошо знакомый голос, подобно муэдзину, выкрикнул загадочные слова. Казанова выглянул из своего окна, но никого не увидел. Дождь не прекращался до утра.
Первые новости были неутешительными. Гонец, явившийся с запиской с Денмарк-стрит, сказал, что Шарпийон до сих пор не нашли. Шевалье беспрестанно расхаживал по дому, что-то бормотал, кусал ногти, но потом собрался и прошел по Пэлл-Мэлл, поднявшись к Хеймаркету под прикрытием своего тяжелого зонта, хотя его башмаки промокли насквозь. Все вокруг окрасилось в серебристо-серый цвет, и трудно было отличить, где сливаются с небом крыши и где отделяются от улицы ступени зданий. Даже люди выглядели издали серебристыми, совсем как шпили церквей в Нидерландах.
Шарпийон вернулась. Служанка хмуро сообщила ему об этом в дверях, как будто ей велели нахмуриться и она долго тренировалась перед зеркалом.
Может ли он повидать ее хозяйку и узнать, как она себя чувствует?
Нет, не может. Никаких посетителей, кроме врача, к ней не пускают. Только хирурга, аптекаря, рассыльного из аптеки. И…
— Но, по крайней мере, скажите, дитя мое, что с ней случилось? Ее жизнь в опасности?
— Вы погубили ее! — воскликнула мать Шарпийон, возникнув за плечом у служанки. — Я еще не видела ее в столь плачевном состоянии. Шок был слишком велик, и у нее задержка.
— Задержка? — уныло переспросил он, не уверенный, что понял смысл этой страшной фразы. — И я ничем не сумею помочь? Если вы не разрешаете мне ее увидеть, то позвольте хотя бы заплатить за ее лечение.
Он достал из кармана туго набитый кошелек, вытащив вместе с ним серо-красное птичье перо. Оно выпало у него из рук и спланировало на порог. Все трое посмотрели вниз.
— Этих средств, мадам, — сказал Казанова, вручив ей деньги, — хватит на самый лучший уход.
Мадам Аугспургер взглянула на кошелек и странно покачала головой, словно мысленно перекатила в кармане стеклянный шарик.
— Деньги, — с презрением произнесла она, а затем взяла кошелек и спрятала в складках платья.
Наконец прибыл врач и направился в холл, оттолкнув шевалье. Дверь захлопнулась, и ее заперли на засовы сверху и снизу. Казанова опять подождал на улице, не отрывая глаз от окон Шарпийон. Он представил себе, как врач сурово качает головой, пока женщины с их розовыми четками повторяют молитвы и сморкаются в свои маленькие носовые платки.
Когда лекарь покинул больную, Казанова бросился за ним вслед и вскочил на ступеньку его экипажа. Тот с изумлением уставился на бесцеремонного незнакомца. Из всех английских слов Шевалье почему-то припомнились карточные термины и два-три изысканных комплимента. Врач принял его за грабителя, швырнул ему в лицо пригоршню монет и ударил в грудь набалдашником трости. Казанова отпрянул, и его ноги увязли в грязи. Прежде чем он смог возобновить попытку, дверь кареты закрылась, и она понеслась к Холборну, разбрызгивая воду на мостовой, точно маленькие фонтаны.
Шевалье побрел домой, считая каждый шаг. От особняка Шарпийон до его собственного дома их оказалось семь тысяч двести двенадцать.
глава 3
Гонцы сновали из дома в дом с утра до вечера. Иногда в записках — он не знал, кто из Аугспургеров писал их, они были без подписи — блистали слабые лучи надежды: Мари произнесла несколько слов, выпила немного бульона, улыбнулась. Но после очередного послания эти надежды исчезали без следа: у нее жар, она стонет, врач ни за что не ручается. В сумерках, когда в воздухе запахло тиной и какими-то мерзкими испарениями с моря, в дверь его особняка постучал невозможный Ростэн и передал последнюю записку, самую худшую из всех:
«Мсье, она вас простила».
Простила!
Он зажег свечу и помолился за ее здравие в церкви баварского посла, потом поспешил на Дюк-стрит и зажег целую дюжину свечей в церкви посла Сардинии. Вернулся домой, проспал два часа, проснулся, полежал в постели и спустился вниз с первыми лучами рассвета. Ему сказали, что вода залила весь подвал. Слуги опасались, что, если дождь будет лить еще два дня, река выйдет из берегов и затопит город. Казанова рассеянно слушал их и равнодушно кивал. Для него не имело значения, что город может залить. Затопит, ну и ладно.
В девять утра, не в силах более выносить отсутствие новостей, он отправился в паланкине на Денмарк-стрит. Жалкие и промокшие носильщики бороздили своими каблуками широкие лужи. Ставни в особняке Аугспургеров были закрыты. По запрокинутому вверх лицу шевалье потекли струи дождя. Его выкрикам вторило эхо собачьего лая. Никто не откликнулся на его стук.
У ног Казановы в воде раскачивалась детская туфелька, похожая на маленькую лодку. Он поднял ее и повертел в руке. Явное знамение, и отнюдь не доброе. Шевалье с нарочитой небрежностью сунул туфельку себе в карман. В этот момент на улицу вышел человек в черном, лицо его было скрыто капюшоном. Казанова бросился к нему, схватил за плечи и спросил: «Вы врач, мсье?» Но, еще не договорив, увидел сутану и ленты священника. Он отодвинулся и застыл на месте, зная, что служанка приоткрыла окно и стала за ним следить. Когда он вновь поднял взгляд, она торопливо захлопнула ставни.
Итак, он убил Мари. Конечно. С самого начала было ясно, что один из них уничтожит другого. Их жизни скрестились, как кинжалы. Шевалье вытащил бумажник, сложил банкноты и, даже не потрудившись их пересчитать, просунул в щель над дверью. Расспрашивать ее домашних отныне не имело смысла. По всей вероятности, они подадут на него в суд, и ему придется защищаться. Он рассмеялся. Одежда прилипла к его телу, кудри парика развились, а чулки почернели от потоков уличной грязи. Возвратившись на Пэлл-Мэлл, он разделся у себя в комнате и бросил на пол сырой ворох одежды. Затем встал перед зеркалом и посмотрел на себя глазами гробовщика. Смерть представлялась ему неминуемой и скорой. Никакая ароматическая пудра или золото не помогут человеку избежать роковой минуты. Ее можно отсрочить, оглушить себя болтовней, картами и мелким обманом, но пробил час, к нему явилось это молчание истины цвета дождя, и он почувствовал — жизнь кончена.