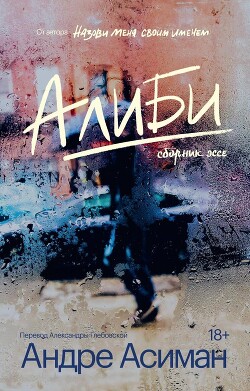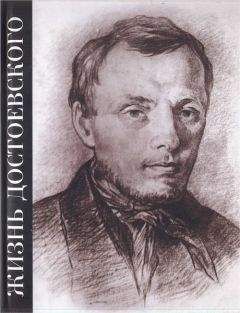Восемь белых ночей - Асиман Андре
– Только сделай мне одно одолжение, ладно? – сказала она, когда мы шли по немощеной обледенелой тропинке к ее машине и оба смотрели в землю.
– Какое?
– Не надо меня еще и ненавидеть.
Это слово «еще», которое явно включало в себя то самое слово, которого мы избегали, задело мое самолюбие – только самолюбие, ничего иного, – как будто самолюбием обросли все кряжи моего позвоночника, а ее слово вырубило его стремительным ударом топора – от такого бык, взбрыкнув, валится в пыль, даже не поняв, что случилось. Ноги не ослабли, не подогнулись, колени не задрожали – умер сразу, пронзенный навылет. Меня не только вывели на чистую воду, но то, что на нее вышло, использовали против меня, как будто в нем содержались слабость и позор, – и все только потому, что она заставила меня осознать, что использовала слово именно в этом значении. Или ранить самолюбие проще, чем что-либо другое? Почему я так мучаюсь, когда что-то в моей душе вскрывают, обнажают и вывешивают на просушку, как перепачканное исподнее?
Мне было стыдно одновременно и за ненависть, про которую я знал, что, безусловно, на нее способен, и за противоположность ненависти, которую пока еще не хотел бередить, потому что подозревал, насколько ее много, пусть она и недвижна, точно озера и реки под толщей льда. Ее «еще» придало всему, что я ощущал, личину непорядочности, налет пошлости. Внезапно захотелось выпалить: «Слушай, поезжай-ка ты туда, куда собиралась, а я первым поездом вернусь в город». Проучить ее этак, не сходя с места. Я больше никогда ее не увижу, не отвечу на звонок у двери, не стану ездить на машине в грязноватые столовки, где из-за кухонной занавески того и гляди высунется похмельный капитан Хэддок или нарисуется пожилой подпольный акушер – опрокинуть рюмочку рома, прежде чем наточить свои инструменты о сломанную мраморную плиту рядом с кассой. Зачем я вообще сюда потащился, зачем эта поездка к черту на рога, зачем это хныканье: «Ты думала обо мне прошлой ночью?» – если она отстукивает мне телеграфом: «Руки прочь» – сейчас и вовеки?
– Ты на меня не рассердился? – спросила она.
Я пожал плечами, имея в виду: и захотела бы – не рассердился.
Почему не признаться, что рассердился, – почему не сказать хоть что-то?
– Дважды за одно утро – ты, наверное, считаешь меня настоящей Горгоной.
– Горгоной? – передразнил я, имея в виду: всего лишь Горгоной?
– Ведь знаешь, что я не Горгона, – произнесла она едва ли не грустно. – Просто знаешь, и все.
– Как выглядит твой ад, Клара? – спросил я наконец, пытаясь говорить на ее языке.
Она встала как вкопанная, как будто я ее потряс, задел, вынудил послать меня подальше. Видимо, я задал вопрос, которого раньше не задавал никто, – много пройдет времени, прежде чем она забудет или простит.
– Мой ад?
– Да. – Вопрос задан, отступать нельзя. На миг меж нами легло молчание. Преграды, сломанные столь поспешно, воздвиглись снова, через минуту их опять снесут, потом выстроят заново.
Может, нас связывает поверхностная, ненавязчивая легковесная фамильярность, и ничего более? Или у нас один ад на двоих, потому что я знаю план ее жилья, точно мы соседи по многоквартирному дому, от скрытого электрощитка до полок в платяном шкафу?
– Может, твой ад очень похож на мой, – произнес я в конце концов.
Она немного подумала.
– Если тебе нравится так думать…
В машине она достала мобильник и решила позвонить своему приятелю и сказать, что мы прибудем меньше чем через двадцать минут. «Нет», – произнесла она, торопливо поздоровавшись. Потом: «Нет, вы его не знаете. На вечеринке». Я пристегнулся и ждал, пытаясь сохранять безразличный вид, мол, задремываю на удобном сиденье с откидной спинкой. «Два дня назад». Заговорщицкий взгляд в мою сторону, чтобы меня успокоить. Пауза. «Возможно». Похоже, он дважды задал один и тот же вопрос. «Не знаю». Она понемногу выходила из себя. «Не буду, обещаю. Не буду». Потом, резко сложив телефон и глядя на меня: «Интересно, что бы все это могло значить», – не признавая истинного смысла вопросов, которые я легко мог вывести из ее ответов.
Меняя тему:
– Когда ты с ним в последний раз виделась? – спросил я.
– Прошлым летом.
– Как вы познакомились?
– Родители его знали с незапамятных времен. Это он познакомил нас с Инки.
– Знакомый знакомых знакомых?
Зачем эта попытка шутить, хотя ясно, что меня крючит от того, что имя Инки постоянно швыряют мне в лицо?
– Не знакомый. Он его дедушка.
Ей, видимо, было приятно заработать очко. Она уловила непрозвучавший вопрос.
– Мы с детства знакомы. Если уж хочешь знать.
Клара никогда не говорила об Инки в совершенном виде, как о человеке, запертом навеки в прочной недостижимой темнице сердца, ключи от которой она выбросила в первый же встречный ров, едва с ним расставшись. Она говорила о нем со странной сослагательностью – так разочарованные жены говорят о мужьях-недотепах: ему бы снова сдать экзамен в адвокатуру, перестать изменять, решиться завести ребенка. Она говорила о нем с озабоченностью, которая из прошедшего времени перетекала в настоящее и в любой момент могла заявить свои права на будущее.
А мне-то где во всем этом место? – вот что следовало спросить. Какого дьявола я сижу тут с ней в машине? В качестве попутчика – пусть будет теплое тело, с которым можно поболтать, если вдруг одолеет дрема? Чтобы было кому кормить булочкой? Или меня низвели до статуса лучшего друга – человека, перед которым можно обнажать душу, при котором можно ходить нагишом, потому что ты ему приказала засунуть своего Гвидо подальше?
Раньше все это не представало мне с такой отчетливостью. Вот, значит, на какую меня взяли роль, а я позволил, потому что не хотел ее обижать, вот почему не имеет смысла ей говорить, как она своим со мной поведением похожа на Горгону. Ролло был прав.
– Музыку поставить? – спросила она.
Я попросил снова Генделя.
– Гендель так Гендель. Вот, это тебе, – сказала она, едва включив зажигание. И подала мне тяжелый пакет из оберточной бумаги.
– Что это?
– Уверена, он будет навевать дурные воспоминания.
Шарик, в котором, если встряхнуть, идет снег, с именем Эди внизу. Я перевернул его вверх ногами, потом в нормальное положение и смотрел, как снег падает на крошечную избушку в неведомой открыточной деревушке. Мне он напомнил нас, как мы в тот день спрятались от всего и от всех.
– Для меня они вовсе не дурные, – добавила она. Она, видимо, знала, что я бы все отдал за то, чтобы поцеловать открытое пространство между ее голой шеей и почти-что-плечом, когда мы сидели там, у Эди в теплом уголке. Не могла не знать.
– Романтический снегопад, – заметил я, глядя на шарик. – А у тебя такой уже есть?
Вот что я в итоге сказал вместо: «Ты всегда так – включилась – выключилась?»
– Нет, и никогда не было. Я не из тех, кто сберегает билетные корешки или амулеты. Не создаю воспоминаний.
– Попробовал – и выплюнул, как эксперты по винам, – сказал я.
Она поняла, к чему я клоню.
– Нет, моя специальность – разбитые сердца.
– Напомни мне никогда…
– Брось изображать Князя Оскара!
К дому старика мы подъехали раньше, чем предполагали. Дороги были пустынны, ставни на домах закрыты, как будто все обитатели этой части округа Гудзон либо залегли в спячку в городе, либо улетели на Багамы. Дом находился в конце полукруглой подъездной дорожки. Я думал, что увижу сараюху, запущенную и полуразвалившуюся, неловко подлатанную с заносчивым пренебрежением, которым старость наделяет тех, кто давно отказался от связей с окружающим миром. Увидел я особняк на вершине холма и сразу заподозрил, что задним фасадом он обращен к реке. Я оказался прав. Мы вышли из машины и направились к входной двери. Потом Клара вдруг передумала и решила войти через боковую дверь, и там, нате-пожалуйста, действительно показалась река. Мы остановились у просторной веранды со столом и стульями чугунного литья – подушки с них то ли были сняты на зиму, то ли истлели от старости и ненадобности, а заменить их не потрудились. Зато деревянный спуск к лодочному причалу, похоже, переделали совсем недавно – выходит, о доме заботились, а подушки, видимо, просто аккуратно прибрали до лета. Поднявшись на веранду, Клара попробовала открыть стеклянную дверь, но она оказалась заперта. Она трижды стукнула по ней костяшками пальцев. Снова отыграла сценку «я озябла», потерев предплечья. Почему я ей не верю? Почему не принять все за чистую монету? Этой женщине холодно. Зачем доискиваться чего-то еще, устраивать облаву на подтексты? Помнить, что нужно остерегаться? Не верить в то, что она сказала мне вчера и как минимум дважды повторила сегодня?